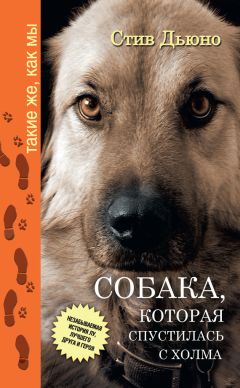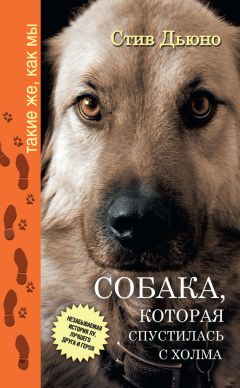Александр Терехов - Бабаев
Сердце – это сердечная мышца.
Шел мимо хохлов, торгующих мясом, мимо разговоров: «Сколько мясо?» – «Три тыщи». – «А сердце?» – «Три тыщи». Я оглянулся и увидел красное, отличимое от соседских кусков лишь законченностью, гладким округлением, как кулек.
Дни ушли, каждое утро ложился снег и таял за день, я вспомнил Бабаева не как всегда – зимним, в шапке, пальто (летом каникулы, лекций нет), а летом, в единственном черном костюме и заново почуял острое: умер. Но ведь голос, задыхающийся, шершавый, глухой, песочный смех с прорывающимся голосом, размах рук, доверительный наклон головы «со значеньем», неясные, немые движения поднятой ладони, когда прерываются слова – я же все это вижу еще, жест приветствия и прощания – медленно поднятая и застывшая рука, вот натянул перчатки, накинул школьную сумку на плечо и по-мальчишески порывисто пошел из университета, из дома, забрав свои очертания из коридора у Ленинской аудитории, не оставшись ничем, даже именем читального зала, именной стипендией, тенью.
Я не собирался жить без Бабаева, я представлял: подрастет дочь, я посажу рядом в аудитории: слушай. Он не мог умереть, бережлив, осторожен, медленно ходит, он с Кавказа, а там люди живучи, у него еще жив старший брат, и очередь не его, всего шестьдесят семь лет, он сперва всех приготовит долгим угасанием, когда за спиной все начнут друг другу печально кивать, и самое важное: он не мог умереть, не закончив учебного года.
Он ходил в музей, в любую удобную минуту – собирался и шел. С дочкой. С собакой. Отрывался от страниц и взглядывал на собаку: «Терпеть не могу, когда ты садишься ко мне хвостом». Собака подымалась и пересаживалась.
Умер в субботу, а в пятницу Бабаев вдруг пошел в музей, хотя жена отправила за хлебом.
Никто не мог вспомнить, зачем он приходил.
Даже Шеляпина, самый близкий друг из музейных мукомолов. Вспомните, зачем он приходил?
Она смотрела на меня выцветающими, тусклыми, светло-голубыми глазами с крохотным, мутным зрачком, ватное лицо, седые волосы – в один тон, не помнит. Сидела как мертвая, движения ее рук пугали. Казалось, ниже пояса тела нет. Но удивительно легко поднималась и убегала за нужной книгой – ее не выгоняли, оставили доживать в библиотеке, и нельзя было даром есть хлеб.
Старая женщина смотрела на меня, как на плавающую далеко рыбу, ровно, равнодушно и коротко говорила о человеке, дружила с ним тридцать шесть лет. Умерла она потом, когда побежала за троллейбусом. Все время торопилась на троллейбус, не успевала, двери сомкнулись, защемили ее шарф, и троллейбус потащил библиотекаря за собой и зашиб до смерти – что она смогла вспомнить?
Ну. Вот. Ну, пришел в пятницу. Побыл. Сказал: провожу вас, хотите до дома, хотите до троллейбуса. Я выбрала: лучше до троллейбуса. Зачем? Надо было с ним пройтись, пройтись. Может, Эдуард Григорьевич, хотел рассказать, как сумасшедшая вырывала у него палку на Арбате. Она не знала, что пора проститься, она уехала на троллейбусе, а он пошел один навстречу последней ночи. Жена удивилась: «Ты куда пропал?».
Совсем уже весной я собрался в Ясную Поляну ради шкурной, денежной надобности и зашел в музей за рекомендательными письмами, разрешительными бумагами, смотрительница диктовала мне форму челобитной: «Директору музея Ля-эн Толстого», я, дожидаясь круглой печати, попросил глянуть последние публикации Бабаева.
Последняя прижизненная вышла в «Первом сентября», в четверг – над строкой карандашной бабаевской рукой дотошно и разборчиво вписаны пропущенные буквы «не», меняющие смысл фразы на противоположный – неужели Бабаев поспешил в пятницу в музей исправить опечатку в музейной подшивке, собираемой для истории, наперекор смерти? Чтобы пропущенные буквы не погубили нашу жизнь.
Жалкое очарование «последней встречи». Подлый интерес «как умирал».
«Последний раз я увидела на центральной лестнице, он поднимался, сопровождаемый двумя студентами по бокам, словно они его вели, Эдуард Григорьевич всегда ходил осторожно, но этот раз он шел особенно осторожно, и заметила: руки, заложенные за спину, у него какого-то другого цвета. Я подошла, попросила студентов дать ему побыть одному, надо бы встретиться, он предложил: давайте, через неделю».
Эдуард Григорьевич повторял: мучают сессии. Он надорвался на экзаменах. Не пришла принимать экзамены какая-то Рыбакова. Он столько времени возился с этой Рыбаковой, позвонил и попросил: придите, вместе будем принимать. Рыбакова устами своей матери ответила: из носа течет, болею, не могу. И он вышел на экзамены один.
Не верил, что болен серьезно. Собирался: в понедельник пойду в университет, читать. Бабаев умер в половине седьмого вечера. Я читал верстку. Берестов в Обнинске рассказывал со сцены про своего друга Эдуарда Григорьевича (небось присочинил совпадение для красоты, а потом и сам поверил).
Бабаев не хотел «скорой», отказывался пить импортный аспирин, Майя Михайловна обзванивала знакомых: что дать? Сошлись на нитроглицерине.
Он выпил нитроглицерин – боль ушла. Осталась сердечная недостаточность, но Бабаев ее не чуял. Лег на диван, на свою «лежанку» с газетой в руках, поставил радиоприемник на грудь (ведь глуховат), нашел подходящую музыку и задремал.
В комнату заглянула Майя Михайловна, приемник грохотал, как сказала она, «гремел какой-то рок»: «Ну вот! Значит, все хорошо?» – она спросила. Эдуарда Григорьевича уже не было.
На похоронах профессору Есину (куда ему деваться – завкафедрой!) дали слово: «Эдуард Григорьевич постоянно жил в мыслях и думах о литературе. И в последний день, когда он прилег отдохнуть, он думал о ней же…»
Вам, должно быть, интересно про любовь и брак.
Поэт, бывало, в университете
Читал стихи и толковал Платона.
И все прошло. И ты бывала здесь,
И многие тебя не позабыли.
А я брожу один по городам,
Перевожу старинные газели
И новые журнальные стихи.
Но белая дорога нас приводит
К началу наших странствий и тревог.
И может быть, на позабытый голос
Вдруг первая откликнется любовь.
Майя Михайловна преподавала живопись в заочном университете искусств, писала отзывы на присланные почтовым способом работы народных художников – отзывы печатала на машинке, их идеологическую верность проверяло научное руководство, в проверенные отзывы она от руки дописывала советы самородкам, у каких художников надо учиться на самом деле. С Бабаевым они любили ходить вместе в кино, Эдуард Григорьевич мечтал написать киносценарий.
Как они познакомились, если кому-то это интересно.
Майя Михайловна из семьи художника. Когда она сказала, что отец играл с Маяковским в карты на ее животе, чтобы ребенок был под присмотром и, одновременно, не баловался, я сперва жалко пытался что-то подсчитать (Майя Михайловна вызывающе молода, когда она шла с сыном, приятели отзывали его в сторону и спрашивали: завел себе подружку постарше?), но быстро замер, как замирает любой, заметив, что прожитое время усыхает, как мощи, и расстояние между царями-императорами становится в ладонь и прошлое подкатывает к носу – можно пощупать.
Майя Михайловна пересекалась с Н. Я. Мандельштам, слышала: приезжает какой-то Эдик из Ташкента и Лариса (его жена), я тебя познакомлю. Странно, что он с ней (подумала при знакомстве Майя Михайловна про Эдика), женщиной вульгарной внешности, посреди умных разговоров пускавшейся в детальные описания ссор с квартирными хозяйками (попадались одни твари, ни с одной невозможно сойтись), впрочем, фактически они уже развелись, но юридически – нет; Надежда Яковлевна двигала Эдику в жены Варвару Шкловскую, невеста носила захворавшему жениху плохо сваренных куриц и отражала наезды Ларисы.
Отгостив в Москве, на прощальной вечеринке Бабаев вдруг взялся танцевать с Майей Михайловной и говорил много любезностей (она задумалась: странно, а Варвара Шкловская?), ему успеть на метро, на ночлег в Кузьминки, он отправил провожать Майю Михайловну на Арбат друга Берестова, и тот всю дорогу, всю дорогу пересказывал Майе Михайловне свою никогда не написанную пьесу (вот в это я настолько верю, что просто вижу живьем!), а на работе ей (время спустя) сказали: можете выехать поработать с заочниками, вот городов несколько на выбор, и Ташкент.
Ташкент – она выбрала Ташкент, когда еще смогу увидеть Ташкент.
Не застала Бабаева дома, оставила записку. Уже чуть свет он постучался в ее номер. Они вышли из гостиницы, на неведомой земле, и купили два шарика на тонких резинках (черт знает как называются, ну, которые легкие, прыгают), бросали их вниз, они подлетали вверх.
Днем она учила сто заочников, вечерами он преподавал русскую литературу, ночами они гуляли, встречаясь в парке, она приносила огромные бутерброды с мясом, он рвал их, как пес, и урчал: наконец-то у меня появилась нормальная баба! У нее было пятьдесят рублей (подарила тетка), они рванули тратить капитал в Самарканд и Бухару, проезжий москвич сходил с ними в кино, а по приезде домой раззвонил Москве, рассказав только матери: Варваре Шкловской Эдика не видать!