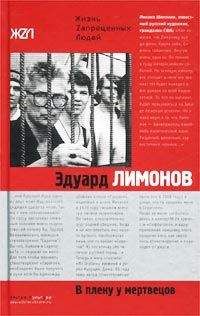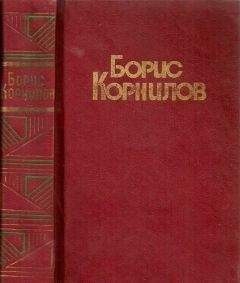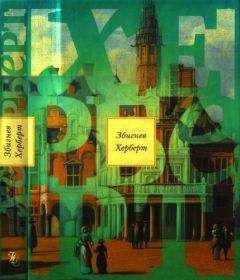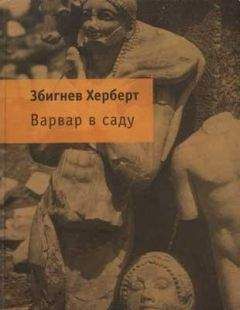Александр Проханов - Рисунки баталиста
Он винился перед сыном и каялся. Винился и каялся перед алтарем, отлитым из шершавой брони, покрашенным в серую зелень, с белой цифрой 31. Верил, что сила и глубина покаяния будут той силой и глубиной, что укроют и сберегут его сына. Грозящая сыну напасть – пуля или минный удар – будут остановлены отцовским его покаянием. Он не мог себе объяснить, но знал, но верил: существует прямая связь между его отцовской виной, всей его жизнью и тем, что грозит его сыну. Его личной неправдой и огромной, вонзившейся в мир бедой. И чтобы уберечь любимого сына, отодвинуть мировую, нависшую над всеми беду, он, Веретенов, должен теперь повиниться. Должен сыскать прощение у сына.
Он задыхался. Чувствовал, что погибает. Что он не услышан. Что ему не хватает слов. Что солнце сжигает последнюю тень и сыновние плечи и грудь – на жестком бесцветном свету. Башня с нацеленной пушкой неизбежно откроет огонь, и другой смертоносный огонь влетит в нее сквозь пролом, взорвется в недрах машины, истребляя солдат, и среди них – его сына.
– Я знаю, в мире зреет беда, катастрофа! Действуют мрачные сверхчеловеческие силы… Они, эти силы, сдвигают материки, губят Землю, готовят вселенский взрыв!.. Что может один человек?.. Но мне кажется, что-то может! Что-то могу и я! Что-то мог и не сделал! Или что-то сделал не так!.. Когда-то и что то не так!.. Не так прожил жизнь!.. Какой-то грех и проступок… Что-то неосторожно разрушил!.. Порвал какую-то цепь!.. И вдруг мир загорелся!.. Какой-то винтик я забыл повернуть! Какой-то рычажок в конструкции мира! И мир стал падать, гореть!.. Это я во всем виноват! Я один виноват!.. И поэтому ты здесь оказался.
Он чувствовал, что произносит абсурд. Что его оставляет дыхание. Что может упасть прямо здесь, лицом в эту пыль, изрезанную стальной гусеницей. Сын медленно поднял глаза, и в этих глазах было столько любви и муки, дрожал такой слезный блеск, что он, отец, потянулся на этот блеск, ткнулся обессиленно лбом в острое сыновнее плечо.
– Папа, зачем ты, зачем?.. Ты очень бледный, больной!.. Ты всего натерпелся!.. Ну пожалуйста, ну ты мне поверь! Все будет у нас хорошо!.. Слышишь, папа, все будет у нас хорошо!..
И то, что сын, худой, в линялой одежде, с исцарапанными, в мазуте руками, утешает его, отца, и то, что сын, к которому стремился сюда, чтобы спасти, защитить, сам его защищает, вызвало в нем, Веретенове, такую слабость и боль, такую благодарность и немочь, что он обнял сына. Трясся в беззвучном рыдании, уткнувшись в сыновнее плечо.
Сын гладил его, дожидаясь, когда он утихнет.
– Сейчас… Подожди… Принесу…
Поднялся, вскочил на броню. Опрокинулся в люк. Вернулся с флягой. Открутил и поил отца теплой кисловатой водой. Веретенов пил эту воду из сыновних рук. Проливал, опять припадал. Вдали пылил броневик. Солдаты вышли из-за железного борта. Смотрели. Все жевали яблочный московский пирог. Веретенов омывал лицо, сын из фляги ему поливал. Легкая, смывающая слезы капель летела в горячую пыль.
Подкатил броневик. Лейтенант Коногонов пригласил на броню Веретенова:
– Подполковник Кадацкий прислал за вами.
– Так быстро? – Веретенов топтался беспомощно. – Разве прошел уже час?
– К вечеру рота подтянется в расположение части. Вы опять сможете побывать в четвертой роте.
– Петя, я вечером снова!.. Вечером снова приду!..
Его уже уносило. Он был уже далеко. Боевая машина пехоты скрывалась за пыльной завесой. Он трясся на броне с Коногоновым. Сквозь люк, где круглился танковый шлем, полосатое, сложенное, лежало одеяло.
Огромная желтая степь, загадка древнего Востока, качалась в своих горизонтах. Казалось, отовсюду, из далей, смотрит в эту степь кто-то огромный и властный. Тот, кто утром явился ему в заре, а в полдень – в пламени взрыва, а до этого перенес через горы в медлительной огромной ладони. Этот кто-то знает все наперед. Видит все проложенные через степь дороги. Все бредущие по ней караваны. Все иссохшие и живые колодцы. Могилы царей и рабов. Судьбы былые и будущие, обреченные пройти через степь. И сына, и его, Веретенова.
Страничка из диссертации
портрет
Ремешок панамы на подбородок. Автомат – теснее к груди. Подошву – на стертую спинку сиденья. Гибкое тело – вверх, в отверстие люка. Из грохочущего пыльного жара – в ветреное тугое пространство. Рывком – на броню. Спиной к усеченной покатой башне с вороненой ноздрей пулемета. Лейтенант Сергей Коногонов, угнездившись на ребристой броне, сжал глаза от свистящих проблесков разорванного скоростью воздуха.
Слева от грунтовой продавленной колеи дыбом стояли горы, рифленые, в вертикальных складках, как огромные лошадиные зубы. Справа клубился войлок осенних садов и полей, череда кишлаков, «зеленая зона» Герата. Сзади пылило и сыпало, вздымался поднятый колесами вихрь. Впереди – пустая дорога, выдавленная на рыжей степи. И эта размытая степь, смоченная влагой его, Коногонова, глаз, породила счастливое чувство свободы и молодечества. И он нес его, ухватившись за ствол пулемета, слыша, как ветер дует сквозь куртку на его худые крепкие ребра.
Снова нырнул в броневик. В тесном, из углов и граней, объеме, рассеченном лучами пыли, водитель, казах Кандыбай, крутил штурвал. На остром плече, попадая в луч, загоралась красная сержантская нашивка. На дребезжащем полу лежал бушлат. Подпрыгивали «Калашников» с лысым прикладом и истерзанная, захватанная масляными пальцами книга. Лейтенант приблизил губы к маленькому смуглому уху сержанта и крикнул сквозь рокот и вой:
– Держи скорость, да посматривай! Ну ее, колею! Давай параллельно! На мину наскочишь, книгу не дочитаешь!
Сержант скосил узкий карий глаз, словно угадал его упоение быстрой ездой. Его командирский оклик был связан не с чувством опасности, а с желанием поделиться этим чувством свободы и удали. Улыбнулся белозубо:
– Я, товарищ лейтенант, эту книгу дочитаю, а после вам отдам. Тут очень интересно про Париж написано. Очень я хочу в Париже побывать. А насчет мин не надо волноваться. Тут утром афганский полк прошел. Какие мины стояли, все сняли. – И он поддал газу.
– Держи скорость да посматривай! – повторил Коногонов, не слишком настаивая на приказе. – Если хочешь в Париж попасть, сначала попади в кишлак. А уж после в Париж, если хочешь! – и снова вылез из люка.
Огромные лошадиные зубы не изменили своих очертаний, только резче проступили гранитные складки. «Зеленая зона» не приближалась, и в рыжей осенней листве гранатовых садов, виноградников солнечно и сухо проплыла голубая мечеть. В безоблачном небе, пересекая дорогу, летела ширококрылая птица. Мелькнула над головой Коногонова, вяло колыхнула крылом. Блеснул птичий глаз. И это совпадение с ленивым полетом орла, зрелище гор и мечети породило в лейтенанте острое чувство Востока. Того, желанного, из лазури, гор и степей, о котором мечтал студентом. Среди которого вдруг оказался в зеленой пыльной панаме с офицерской кокардой. Он, Коногонов, аспирант и отличник выпуска, начинавший писать диссертацию о проблемах ислама, собирал для нее материал не в тихих музейных хранилищах, не в беседах с востоковедами, а среди боев и засад, горящих кишлаков и обстрелов.
Проследил исчезавшего, затмеваемого пылью орла. Опять окунулся в люк, к сержанту, в дребезг и треск.
– Ты дорогу в кишлак не забыл? – лейтенанту нужен был собеседник, и он тормошил сержанта. Тот понимал командира, отвечал с едва заметным превосходством. Завершался второй год его службы. Лейтенант, без году неделя в части, забавлял его своей впечатлительностью. – Тут будет развилка, помнишь? А нам налево, не забыл?
– Что у меня, памяти нет? У меня здесь в прошлом месяце скат спустил. Пока менял, ребята варана поймали. Вот такой здоровущий варан! – Сержант оставил штурвал, растопырил коричневые пятерни, и машина, почуяв свободу, вильнула. – Посадили на веревку и водили, как собаку! Шипит, злой, рот красный и два языка! Я говорю, нет, не сажайте в десантное отделение. С ним не поеду! Как раз вот здесь, на развилке!
– Ну вот, советую, копи, собирай впечатления! Здесь много удивительного для нашего человека. Собирай и копи. Будешь потом дорожить.
– Да нет, не буду я собирать. Не буду дорожить. Сяду в самолет и забуду. Я другое хочу собирать. Хлеб хочу собирать. У нас в Аркалыке, наверное, уборка идет. Отец на комбайне. У него желудок болит. Ему тяжело работать. Я его подменял на комбайне. Ляжет на копешку, лежит, а я молочу. Сейчас он один работает. Желудок болит, а работает. Мне надо домой, к отцу. А здесь мне что собирать? – Он мотнул головой, как бы отрицая и эти горы, и кишлаки, где совсем другие хлеба, другие земные плоды и другие руки, взрастившие их, призванные их убирать.
Коногонов пристальней всмотрелся в смуглое, угловатое лицо Кандыбая, вписанное в геометрию брони. И увидел белую от хлебов казахскую степь, шествие красных комбайнов, золоченые среди синих небес башни соломы и его, Кандыбая, упавшего спиной на соломенный ворох среди колосков, голубых сорнячков, оглушенных стрекоз и кузнечиков. Об иной земле и пшенице были мысли сержанта – малые искорки в раскосых глазах.