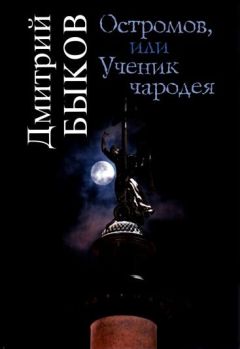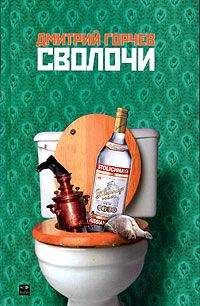Дмитрий Быков - Остромов, или Ученик чародея
Стиль его превращался в пародию на себя. Все, что легко пародируется, плохо по крайней очевидности приема. Шаржем легче прожить, и это, может быть, одна из возможностей развития, предсказанным выдвижением маргинального в центр, низкого — вверх. Интересные иронисты сидели теперь в газетах. Он кое-чего ждал от них. В «Гудке» сидели иронисты взрослые, в «Красной», по слухам, детские. Он хотел их проинспектировать. Все его выезды в Ленинград напоминали теперь инспекцию, и только он знал, что на деле ищет опоры, не находя ее больше ни в себе, ни рядом.
Иногда ему казалось, что это болезнь. Он кидался проверяться. Мозг был в порядке, сердце без перебоев. Нервы были расстроены ровно настолько, чтобы писать. Писать было не о чем и незачем. Но валить на время было постыдно. Он обвинял себя, хотя видел, что молчат все вокруг, и даже Юрий, в сущности, пишет о том, как молчит.
Вероятно, это было следствием того, что кончилось Просвещение — последняя эпоха, у которой была концепция человека. Оказалось, что единого человека нет. Однажды оно уже кончалось, и тогда это называлось Девяносто третий год. Отсюда можно было думать дальше, но Льговский не верил в аналогии. Это была пошлость пошлей прочих.
Литераторы занимались черт-те чем. Черт-те что было двух видов. Одни делали его серьезно, с полной самоотдачей, с сознанием величия, другие отдавали себе отчет во всем, но продолжали работать, чтобы не сойти с ума. Братство вело себя так, как предсказал бедный Левушка. Костя писал длинные советские романы про перековку интеллигента. Зильбер выращивал гомункулусов. Всеволод переехал в Москву, и второй МХТ ставил его партизанскую повесть, в которой разговаривали гмыканьем и хэканьем. Бывшие ученики вели себя не лучше. Гликберг писала «Красного Пинкертона» на материале всемирной литературы. Руткевич публиковал материалы о стиле вождей. Смоленский забросил разбор приемов Мельникова и подсчитывал гласные у Пушкина, справедливо полагая, что теперь его вбросят обратно на пароход современности и, как знать, поставят у руля.
Надо было что-то сделать, куда-то прыгнуть. Но он не понимал.
Между фразами было теперь огромное пустое пространство. Так писали все, особенно Зильбер. Выходило отрывисто. В паузах угадывался воздух, но его не было. Начиналась бессвязность, ломкость, одиночное плавание ничем не связанных, просторно стоящих фраз. Их носило по странице, как щепки.
Пока Одиссей плавал, Итака тоже не стояла на месте. Он вернулся, острова нет. Теперь обоих носит по морю, пересечься невозможно.
На Аничковом Льговский купил и съел отвратительный пирожок с капустой.
Навстречу шел ребенок, на лице его застыло выражение тупой и сосредоточенной злобы, постылой и утомительной, как работа. Льговский состроил ему гримасу, но ребенок ничего не заметил — он был занят. Фонтанка была мутна и грязна, солнце дробилось на мокром мусоре.
Он хотел зайти в Диск, посмотреть, что там, но испугался. Могло быть отделение ГПУ, могла лавка. Очень свободно. Он еще помнил свою комнату, тесные своды, удивительный простор, открывавшийся в них. Самое странное было вот что. Тогда была кровь, голод, на улицах стреляли просто так, и никто не был уверен, что доживет до утра. Уже была Чека. Уже брали ни за что и неохотно выпускали. Уже не всегда помогали звонки и записки истерически благодетельствующего Хламиды. И жили, и работали, и были счастливы — до той самой ночи на мосту, а может, и после. Ночь можно было считать небывшей, привидевшейся. И до самого сентября восемнадцатого года жили, не допуская и мысли, что опять ничего не получится; а кое-какой воздух оставался до самого двадцатого.
И выходило страшное. Выходило, что если ради великого переустройства, то можно было стерпеть и голод, и холод, и Чеку, а вот когда вышло, что ничего не вышло, — тут уже стали бесить и пирожки с капустой.
Это надо было обдумать, и он обдумывал. Вся беда в том, думал он, что мне не с кем говорить, а не с кем потому, что одни уехали, другие умерли, а третьи стали как я. Наше новое состояние исключает разговоры. Я думал, что Юрию трудно писать, а он несчастливо влюблен, и влюблен в такое ничтожество, которое стало моим на другой день и тут же надоело, а он почему-то обиделся. Вот так всегда. Начал с серьезного, а кончил капустой. Я не могу теперь думать долго, или додумываюсь до такого, что становится страшно, и это страшное всякий раз разное.
Часто снились покойники — не знакомые, чужие, почему-то английские. Это было, говорил Мартын Задека, к перемене погоды, а если снятся невесте — то к измене друга. Я не невеста, мне может изменить только погода, мой единственный друг.
Возможным выходом была Азия. В Азии было сейчас интересно. Там дышала другая жизнь, не загнанная в наши рамки и потому не обрушившаяся вместе с ними. Хотелось съездить в Монголию, может быть, в Китай. Китай просыпался. Они с самого начала знали про себя все и умели с этим жить, а Россия этого знания боялась, потому что опасалась увидеть Одинокого.
Почему-то Льговский с самого начала знал, что увидит эту гадину. Если был Петербург, был в нем и Одинокий, средоточие его гнили. Он стоял на Фонтанке, продавал стопку книжек без выходных данных, с названием, фамилией и псевдонимом в скобках. Он потолстел. В ногах у него стояла шапка для подаяния, зимняя, облезлая.
— Льговский! — закричал он. — Вы здесь! Купите у меня книгу последнюю!
— Вот еще, — сказал Льговский. — А почем?
— Сколько дадите. Я нищий.
— А выглядите хорошо, — нагрубил Льговский. — Гладко.
— Очень хорошая профессия! — крикнул Одинокий. — Лучше газетчины гораздо. Поэт должен пасть.
Он произнес это сочно, смачно, смрадно. От него пахнуло сырым мясом.
— Я сейчас единственный поэт, — сказал он доверительно. — Вся остальная сволочь печатается в журналах, а меня гонят, плюют. Левые ненавидят, правые, всем чужой. Обо мне в «Красной нови» упоминать запрещено, знаете?
— Не знаю, — честно сказал Льговский. — Кому вас там упоминать? Вы что, пишете?
— Я теперь пишу как Рембо! — закричал Одинокий, хватая его за руки и тряся неопрятной бородой. — Они все не поэты, а сволочи. Чтобы писать, надо быть плевком, гнилью. Надо содрать с себя кожу, как с Марсия. Я с них со всех сдеру, со сволочей. Мне обещали рубрику в «Жизни искусства», и еще в «Вечерней Красной» есть хорошая гадина. Молодой, тщеславный, прыщи по всей роже, ничего не умеет, всех ненавидит. Он меня наймет, как цепного пса, я всю эту сытую шваль перекусаю. Купите книгу. Я дальше парнасцев пошел. Эстетика безобразного, слышали?
— Даже видел, — сказал Льговский. Его тошнило.
— Искусство делается содранной кожей! — кричал Одинокий. — Кто меня на порог не пускал, все сдохли. Мне еще в пятом году Щепкина-Куперник сказала: все, все продадутся или сдохнут, а вы поэт. Я знаете как теперь пишу? Я оседлал овцу и с жаром в манду засунул свой хуек, но в жопу яростным ударом с овцы баран меня совлек. Я пал в навоз и обосрался…
— Это здесь есть? — перебил Льговский.
— Это? Нет, я это на Измайловском, 14, иногда читаю, у меня там второе место постоянное. На углу. Уже и любители образовались, целый кружок. Слушайте, я знаю теперь, как делается искусство, то есть я всегда знал. Я еще когда проклятых переводил — ведь вы понимаете, чтобы переводить проклятых, надо быть проклятым! И я стал. Говорили, я французского не знаю. Верно, не знаю. Я знаю универсальный язык падали! Они у меня все, все заговорили настоящим языком! Но «Я пал в навоз и обосрался» — Бодлер не сказал бы, нет. Вы околели, собаки несчастные, я же дышу и хожу! Крышки над вами забиты тяжелые, я же на небо гляжу! Вы так можете сказать? Не можете, потому что вы тоже сволочь, с вас надо шкуру содрать, а бить меня нельзя, вы не смеете бить старика, припадочного инвалида…
— Да какое бить, — сказал Льговский. — Это вы, что ли, шкуру сдирать будете?
— Я, и еще у нас есть двое! — орал Одинокий. — Меня сейчас будут печатать знаете как? Меня никогда не посадят! Всех посадят, меня не посадят, я им нужен. Стоит интеллигентный человек и руку протягивает, поди плохо? Купи книгу, сволочь! — отвлекся он на прохожего, в ужасе отшатнувшегося чуть не к самому парапету.
— Ладно, — сказал Льговский. — Вот вам, — он бросил в шапку лиловую пятирублевку.
— Что так мало? Продался, сволочь, зажрался… — беззлобно выругался Одинокий, пряча купюру в карман черного бесформенного пальто. — В хозяева попал… Я тебя помню в ботах дырявых в коммуне вашей, вы все за пайком побежали… Сейчас я один поэт, в «Вечерней красной» всех утопчу в навоз, я напишу, сколько ты дал поэту…
Почему-то после этой встречи Льговскому полегчало, хоть он и обозлился сначала, увидев Одинокого. Он вспомнил, как лучший из братства, съездив в Питер ради трех триумфальных вечеров, рассказывал о нем в ужасе, с гримасой испуганной брезгливости на округлом смуглом лице: «Только не это… Что угодно, но не Одинокий!». Льговский тогда тоже испугался — неужели это грозит? Но теперь понял, что не грозит: с этим надо родиться.