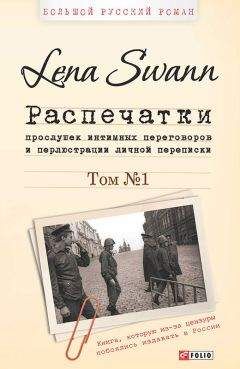Елена Трегубова - Распечатки прослушек интимных переговоров и перлюстрации личной переписки. Том 2
Свечи — впрочем, настолько маленькие, в сравнении с готической высотой собора, что снаружи не было видать ни всполоха — пылали в самом дальнем от алтаря, юго-западном углу, и стояли по щиколотку в воде — на удивительном, не песочном, а водном столике с сотами подводных креплений для остова свечей, — и храма не только не освещали, но, казалось, оттягивая на себя все забытые где-то по сусекам остатки света, даже еще больше сгущали сумрак перед далеким каноническим ортодоксальным алтарным иконостасом.
Резные, пустые, с кружевными воротниками старинные деревянные лавки, сгрудившиеся двадцатью плотными рядами по обе стороны от центрального прохода к алтарю, казалось, замещали собой отсутствующих прихожан. Елена никогда еще не была в церкви совсем одна. Прошла нерешительно к Царским вратам и села на ближайшую лавочку.
Брошенные рядом, как балласт, на плиты, пакеты теперь как будто воплощали собой весь внешний кошмар, из-за которого она сюда и прибежала за защитой, как в бомбоубежище — в греческой оторопи запирать ворота. Как будто все эти трения с оголтелыми, озабоченными жратвой и покупками телами, вся эта бушующая кругом наглая материя и бессовестная матерьяльность, вроде бы игровая для нее, вроде бы несерьезная, и поверхностная, визитерская, туристическая, не впускаемая под кожу, — тем не менее, вдруг будто украла у нее половину внутреннего пространства — и теперь ей было тесно и страшно и внутри себя.
Она вспомнила, как Татьяна рассказывала ей о первых братьях, собиравшихся в катакомбах или секретно у кого-то в доме: не было тайной исповеди — каждый выходил на середину и громко исповедовался перед всеми братьями в каждом грехе; и жгучий стыд, который она, Елена, испытывала, каждый раз в Москве, в церкви, в Брюсовом, выходя на середину и беря себя на слабо́, взвешивая, и представляя, что сейчас ей посреди народа нужно будет признаться в каждом своем грехе, яже в слове, яже в деле, яже в ведении и не в ведении, яже во дни и в нощи, яже в уме и в помышлении, — этот чудовищный стыд был залогом того, что именно эта, древняя практика верна; но где же здесь, в центре Мюнхена, найти этих братьев, которые бы ее услышали? Она встала, подошла к алтарю, робко повернулась к пустой церкви, проверяя себя, представляя, осмелилась бы она вот сейчас, вот здесь, как на духу, упасть на колени и громко и ясно проговорить всё, дословно, добуквенно, всё, что натворила, всё, что накопилось, накипело на ней, с момента крещения, и что теперь мешало дышать — будь здесь ее братья и сестры, преломляющие с ней в простоте и радости, как в каком-нибудь тридцать третьем, тридцать пятом году, от Рождества Христова, хлеб?
И потом встала лицом к Царским вратам — и вдруг появился в ней другой образ, повергавший ее в трепет каждый раз, когда она подходила к тайной исповеди, но, одновременно, наполнявший таким жарким счастьем — предельно реальное чувство, что все грехи на тайной исповеди она выговаривает напрямую, Богу — все, до последнего мрачного суетного пятна, всё, что заставляло ее отворачиваться от главного источника света в ее жизни, всё что нужно было пригвоздить словами и вышвырнуть из жизни. И пронзительное, стыдное, но одновременно счастливейшее осознание, что нет греха, за который бы Бог хотел ее наказать — а есть только чувство несчастья и мрака от всего того, что ее от Бога отдаляет, что мешает ей чувствовать Божье присутствие, ощущение которого было с такой щедростью даровано ей в момент крещения.
Вдруг слева от алтаря распахнулась дверь, которую она раньше в темноте не заметила, и вошел, вбежал, молодой, страшно худой монах, на котором коричневая ряса провисала как на изнеможенных постом костях; со ввалившимися щеками, как после нескольких бессонных ночей — тем не менее, шел крайне энергичным, целеустремленным шагом, направляясь, не замечая ее, в левую алтарную дверь.
Она рванулась к нему со всем отчаянием и буквально заорала — почему-то на русском:
— Здравствуйте! Можно мне исповедоваться?!
Монах остановился. Вполоборота, как будто зависнув на полшаге, как будто намереваясь тут же идти дальше, если она не предъявит веских оснований, почему бы это он должен задержаться. Она подбежала к нему и онемела.
Монах поразил ее: всклокоченная недлинная борода, растрепанные короткие чуть вьющиеся усы; крутого, жесткого завитка черные взъерошенные волосы, ниже плеч забранные в косичку, и эти ввалившиеся щеки — пуще, чем у Темплерова, — и этот яркий, вызывающий взгляд исподлобья. И яркие глаза, разяще контрастирующие с до ужаса черными кругами вокруг них и впалыми глазницами, и изможденным лицом, как будто списанным с картин Ге.
«Он измучен, как будто и так тащит на себе всю тяжесть мира, от миллионной доли которой я, убогая, корчусь до невозможности дышать и жить, и ломаюсь на раз, — подумала Елена. — Как же мне просить его еще и взвалить на себя мою исповедь? На каком языке с ним говорить?»
Она не успела ничего выговорить.
Монах быстро перекрестил ее, благословляя. Замер на секунду. Которая показалась сияющим всполохом вечности. Открыл дверь и исчез в алтаре.
Она молча опустилась на скамейку.
Алтарная дверь, которая за ним беззвучно и плотно затворилась, была расписана жутковатой иконой Иоанна Крестителя: предтеча гордо, по-ангельски, возвышался с нимбом вокруг головы, а справа у ног его лежала его же голова, отрезанная пьяным блудливым Иродом — и теперь покоилась, словно ненужный больше рыцарский, земной, шлем. И то ли поэтому, то ли по какой другой причине, постучаться в эту дверь не было никакой возможности.
Пространство над резными Царскими вратами было наглухо задернуто тяжелой шторой.
Она подождала еще несколько минут. В алтаре было тихо.
«По-видимому, он вышел оттуда через какой-то тайный внутренний выход», — подумала она.
Подождала еще немного. Собрала валявшиеся на полу манатки, и тихо вышла из храма.
XIНа Мариен-платц, как-то разом почерневшей, было неуютно и страшно. На углу с Кауфингэр, где днем играли барочные скрипки, теперь сновало убористое автонасекомое, и поджирало за людьми мусор. За ним, родственный ему вид из семейства пластинчатоусых, полз на колесиках, плевался слюной и мыл двумя жгутиками мостовую шампунем. А лунатического вида человек с лисьими бакенбардами в оранжевой униформе с баллоном за спиной, едва удерживавший в черных резиновых руках угрожающе шипящую и вырывающуюся очень-очень узкую трубу, играл в сафари с черными кляксами от жвачек, настигал их и с садистским выражением лица отпаривал сжиженным горячим паром с тротуара.
Четверо школьников, спрятавшие от прожорливых жучьих челюстей банку кока-колы, с грохотом играли ею в футбол перед Кауфхофом, перед носом у уже откровенно охотившегося на них водителя голодной, и крайне маневренной, мусорожорки.
Даже на лифте кататься не захотелось. Сплавившись на угрюмо покрякивавшем и пахшем спортивным залом эскалаторе, а затем догнавшись, для полного неудовольствия, по ступенькам вниз, к Эс-Баану, Елена впрыгнула в абсолютно пустой вагон. Поезд не отъезжал, не желая везти одного-единственного седока.
Через минуту ввалился в вагон контролер и, икая пивом, накренился к Елене: весь какой-то мокрый и землисто-серый, с ущербной, выпирающей, съедающей собой весь рот, нижней челюстью, и гнилыми зубами (коктейль, придававший его лицу что-то старушачье), и склабясь так, что посредине гу́бы были сомкнуты, а в уголках рта красовались как будто две дырки от баранок, осведомился:
— Девушка, а у вас — билет есть? — и раскатился рыгательным: — Э-э-э-э-э-э.
Когда она, отворачивая лицо и стараясь не дышать, всунула ему под деформированную челюсть, как под компостер, свой билет на весь день, в дверях послышался молодецкий довольный гогот догонявших его нетверезых корешей, увидевших, как он решил разыграть пассажирку. Они с гулким хоккейным грохотом закатили вперед себя в вагон четыре чокающиеся друг о друга пустые стеклянные бутылки из-под пива.
Решив, что ехать наедине с такими контролерами в одном вагоне до Ольхинга — это не самая заветная мечта ее жизни, Елена перебралась в головной вагон — тоже абсолютно пустой, но где, пусть и за кофейными муарами затемненной дверцы, все-таки была хотя бы слегка видна фигура водителя — расслабленно курящего и эффектно стряхивающего пепел с сигареты на пульт.
Сев у окна, на ближайшее сидение, слушая, вчуже, уже потерявшие для нее от безмерной усталости всякую семантичность объявления курильщика в динамике, говорившего почему-то смазливым женским голоском, Елена приложила правый висок к холодной оконной раме и, выгоняя из зрачков расплющенное под стеклом изображение галлюциногенной пустой станции, незаметно для себя уснула.
Напротив лаял и вставал на дыбы рыжий сеттер со специальными помочами и поводком собаки-поводыря для слепых.