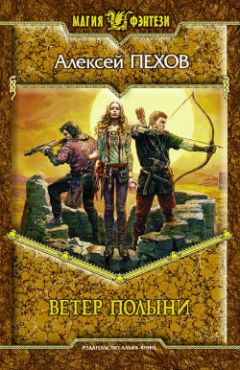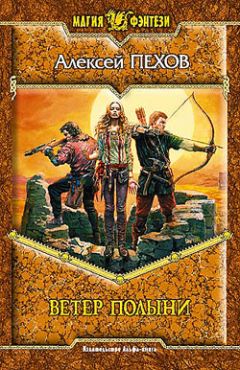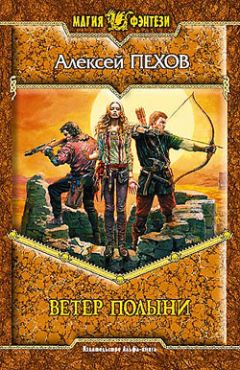Али Смит - Как
Я стояла, вдыхая запахи «Персила» и освежителя воздуха. Через спинку стула был переброшен кардиган. Я приподняла край рукава, сохранявший круглоту ее запястья, и поднесла к носу — пахло мылом, довольно приятно. В ящиках прикроватной тумбочки лежали какие-то вещи, какая-то мягкая материя застряла в поспешно задвинутом ящике, я не осмелилась к ней притронуться. На поверхности воды в стакане плавала легкая пленка пыли, она чуть заметно качнулась, когда я подошла ближе. Потрепанный Харди, «Голубые глаза»[34] (а я это уже читала, отметила я с удовлетворением), под этим — что-то на французском, а под той книгой — какая-то неподписанная мраморная обложка — может быть, это записная книжка? Я вытащила ее, раскрыла, и страницы начали сами собой перелистываться у меня в руках, сплошь исписанные синими строчками, глаза выхватывали разрозненные слова — возможно, тот, тронули, изысканный, непрочный, или непорочный? рука, или река? или рака? А потом, заглушая стук в моей грудной клетке, раздался шум чьих-то шагов на лестнице, или кто-то пустил воду из крана, и я захлопнула блокнот, положила его на место, под книги, и поправила корешки (я наловчилась оставлять чужие вещи точно в таком порядке, в каком они были, за многие годы тайных обысков в комнате братьев), выскользнула за дверь и спустилась по лестнице, прокричала «До свиданья!» миссис Джеймисон, не дожидаясь ответа, закрыла за собой входную дверь, а когда снова оказалась дома, в своей комнате, разжала ладонь и поглядела на вещицу, которую украла. Это была полоска тканых кружев, вроде макраме, наверное, закладка; я стащила ее просто так, чтобы доказать самой себе, что посмею, хотя даже не поняла толком, что это такое. И не знала, что мне с этой штукой делать. Я спрятала ее под подушку. Потом вынесла ее через заднюю дверь и положила в урны, под верхний слой мусора, — точно так же, как поступила чуть раньше, этим же летом, с книжкой «Клодина в школе»[35], чтобы кто-нибудь случайно не застукал меня за подобным чтением — скорее всего, этим кем-нибудь могла стать я сама.
Я решительно опустила крышку мусорного ящика. Отныне, сказала я себе, все кончено. Я с ними больше никуда не поеду. Они мне не нравятся, они сумасшедшие, а главное, мне стыдно с ними, и она мне не нравится, к тому же скоро они уедут, и больше не придется с ней видеться, так что все в порядке, решено.
Назавтра мы поехали к Jlox-Heccy.
7.15 вечера.
Мой отец отправился на рыбалку. Когда он ушел, я вывалила свою половину сегодняшнего ужина на компостную кучу. Не могла проглотить ни кусочка. Этот здешний запах и здешний вкус. До этого я избавилась от обеда, когда отец отлучился, чтобы подойти к телефону, иначе, наверное, меня бы стошнило. Я вынесла еду на улицу и прикрыла какими-то старыми досками. Тушеное мясо. Я его не ела уже много лет. Не ела тушеного мяса.
Внизу какая-то девушка играет на фортепьяно. Я не знаю, кто. Я открыла дверь, а там стояла она, с виду лет четырнадцати, под мышкой зажаты нотные тетради. Наверное, сейчас она играет Шопена. Очень хорошо играет. Наверное, отец приглашал настройщика, я не помню, чтобы наше фортепьяно звучало так здорово. Вы — Эш? — спросила девушка. Она приготовила для меня чашку кофе на кухне — знала, где стоят чашки и лежат ложки, где хранится кофе, она села на табурет, облокотилась на столик, за которым завтракают, и сказала: Мистер Маккарти говорил, что вы снимаетесь в кино, играете в пьесах и тому подобное, интересно, у нас это можно увидеть? Здесь никогда не показывают хороших фильмов, добавила она, одну только дрянь, а вы знакомы с кем-нибудь из знаменитостей? Никто из наших мест, наверное, не знает никого по-настоящему знаменитого, сказала она. Ее зовут Мелани. Она любит музыку, действительно любит. Моцарта играть очень трудно, потому что нужно держать все эмоции при себе, ну, как бы оставаться равнодушной, тебе не позволяется вкладывать в его музыку всю душу. А вот с Бахом иначе — тут как будто у тебя в голове начинается спор, и в него вступают самые разные кусочки твоего «я». Ее учитель музыки говорит, что играть Шопена — это все равно что стоять под дождем где-нибудь в Средиземноморье, ей так хочется туда поехать, а бывала ли там я? Ей кажется, что это должно быть такое чувство, ну, как когда бежишь очень быстро за автобусом и все равно не успеваешь на него, или как когда съешь что-нибудь, и в животе все переворачивается, тебя тошнит, но потом тебе становится по-настоящему хорошо. Но самый-самый ее любимый композитор, сообщила она мне, это Равель, его музыка просто великолепна, хотя учитель музыки говорит ей, что она научится играть его как следует, только когда станет старше. Сейчас она пытается разучить равелевскую Pavane pour ипе infante defunte[36], знаю ли я такое сочинение? На это, наверное, уйдут годы, но музыка поистине трогательная. Ей нравится, что фортепьяно стоит в холле, ей кажется, что акустика там по-настоящему хорошая. А что вы делаете на чердаке? — поинтересовалась она.
Лох-Несс, темное и задумчивое место, кишащее тайными чудовищами. Такое глубокое и мрачное, что никто наверняка не знает, что там в его пучинах. Там, внизу, могут бушевать неспокойные, буйные воды, могут бесноваться настоящие шторма, а ты будешь стоять на камушках у кромки озера, лежать на больших камнях, или глядеть на неподвижную водную гладь с холмов, или даже плыть по ней, и все равно не догадываешься о том, что творится внизу; по холодной и тихой поверхности воды пробежит разве что легчайшая рябь.
В выставочном центре «Лох-Несское чудище» я держалась тихо, вежливо и отстраненно, но никто пока не заметил, насколько я тиха, вежлива и отстраненна. Мать Эми трогала брелки с пластмассовым чудищем и задумчиво сопела, вертя в руках открытки с каймой в шотландскую клетку или с зелеными карикатурными монстрами, наложенными на местные виды. Отец Эми, одетый в тяжелый твидовый пиджак, нажимал на кнопки на цистерне, выкрашенной так, чтобы напоминать поперечный разрез озера, и наобум высвечивал разные пластмассовые макеты. Затонувшая лодка. Огнестрельное оружие времен Второй мировой. Длинношеий пластмассовый динозавр. Когда подсветился динозавр, доктор Шоун улыбнулся, а когда свет погас, он схватил себя пальцами за нижнюю губу и снова нажал на кнопки. Позади него стояли два маленьких мальчика, ожидая своей очереди.
На книжном прилавке лежали одинаковые книги — «История Лох-Несса». Я раскрыла такую книгу в том самом месте, которое недавно рассматривала Эми, — увеличенный и зернистый черно-белый снимок головы, торчащей из воды. Я не знала, куда она ушла. Потом краешком глаза заметила ее — она сидела в кафетерии. Я небрежно положила книгу на место, небрежно направилась в кафе, небрежно села на стул напротив нее.
Может, когда ты вернешься домой, ну, в Англию, может, мы будем писать друг другу, может, ты мне напишешь? Я замолкла, как только дошла до второго «может»: Эми меня не слушала, она невидящим взглядом смотрела куда-то в пустоту, словно меня тут и не было. Я отвернулась. Я разозлилась. Разговаривать с ней — все равно что разговаривать с камнем. Все равно что разговаривать с камнем и ждать, что он тебе ответит.
А потом она вдруг сказала, Эш, ты, похоже, нравишься вон той девице.
Я не поняла, о чем она, пока не обернулась и не увидела девушку, сидевшую у кассового прилавка, которая чуть-чуть замешкалась, прежде чем отвести взгляд. Тут я все поняла. Глаза Эми снова проделывали тот смеховой маневр, и я рассмеялась, я затрясла головой и смеялась, а потом Эми тоже засмеялась, очень громко, и это застало меня врасплох: я перестала смеяться и посмотрела на нее с удивлением.
Мне очень хочется черного кофе, сказала Эми. Вот деньги. Купи себе тоже чего-нибудь, ладно?
Ну? — спросила она, когда я вернулась с подносом. Ее зовут Донна, доложила я, она учится со мной в одной школе, только на год младше, говорит, что знает меня, хотя, поверь, Эми, я, хоть убей, не могу припомнить, чтобы когда-нибудь ее там видела. Она живет тут неподалеку, говорит, терпеть не может все это, скука страшная.
Я обернулась и улыбнулась Донне, и та улыбнулась в ответ — чуть-чуть глуповато, чуть-чуть застенчиво.
Да, я тоже терпеть не могу тут жить, сообщила я Эми через пар, поднимавшийся над нашими пластмассовыми стаканчиками, и вдруг почувствовала, как у меня краснеет шея, а стакан в моей руке меняет форму из-за горячего напитка внутри.
Восхитительно, значит, у вас много общего, сказала Эми — снова мерцающая, отстраненная, вежливая.
И правда, очень скоро мы с Донной подружились, а поскольку она жила за городом, то мы много времени проводили друг у друга в гостях, засиживались допоздна и рано утром наблюдали, как восходит солнце или светлеют облака, и придвигались все ближе и ближе, задевая друг друга плечами и краями бедер, легонько касаясь пальцами, и вскоре мы уже клялись в вечной дружбе, клялись в вечной тайне, вскоре мы уже ощупывали друг друга на берегу реки в полночь, вначале выпив для храбрости сидра «Вудпекер». В октябрьские каникулы я гостила у нее дома; весь дом был в нашем распоряжении, считалось, что мы готовимся к экзаменам, но мы вместо этого целый день копались в саду, разыскивая дохлого хомяка, которого ее младший брат похоронил несколько месяцев назад. Наконец мы нашли его; Донна открыла крышку тапперуэровской коробочки, и мы увидели трупик хомяка — растерзанный, кишевший насекомыми. В тот вечер мы впервые лихорадочно занимались любовью — наверху, в ее комнате, под плакатами со Снупи и «Клэш»[37], а из стерео доносился голос Риты Кулидж[38], певшей «Мы так одиноки». После этого я была для нее готова на все, я даже не поморщилась, когда она сообщила мне, что их с братом любимая игра — прятать булавки в кусках хлеба, а потом бросать этот хлеб чайкам на берегу озера и наблюдать, что будет.