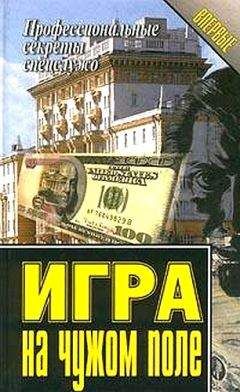Дмитрий Новиков - Рассказы
Потом на стол со скамейки перелез. Немного страшно было, но не упал. Страшно еще, что кто–нибудь выйдет и заругает. Хотя виноград этот ему, Грише, предназначен был. Он это давно понял, как только первый раз увидел. Такой уж замечательный виноград, и растет сам, и зовет. Встал Гриша на столе. Гроздь теперь совсем рядом оказалась, прямо перед лицом. И до чего ж она хороша и вкусна была вблизи, гораздо лучше, чем издали. Сквозь прозрачную кожурку, сквозь дымчатую мякоть разглядел Гриша даже темные маленькие сердечки косточек, таких терпких на вкус. И сами ягоды так дружно друг к другу приникли, как будто разлучиться боялись, как будто знали, что самое страшное в мире — разлучаться. И вся гроздь была такой замечательной продолговатой формы, такая плотная и аккуратная на вид, что Гриша аж зажмурился. Какое–то прекрасное счастье обрушилось на него, обдало с ног до головы, как морская соленая волна. Такое счастье, что не было и ссоры и непонятностей с Маринкой, и родители не ссорились, и погода всегда была хорошая, солнце ласковое, ветер прохладный, а море теплое. Такое счастье, что знаешь точно — оно не кончится и всегда будет. Такое счастье, что очень понятно — будь хорошим мальчиком и воздается.
Гриша открыл глаза. Протянул руки и взял гроздь в ладони. Она была прохладной и тугой, как любимый ярко раскрашенный мяч. Гриша подергал ее. Гроздь не отрывалась, пришлось покрутить, и тогда в руках оказалась драгоценная тяжесть. Он с легким хрустом отделил одну ягоду и благодарно взял ее в рот. Счастливо улыбаясь, надавил зубами. Рот наполнился жгучей, едкой кислотой. Гриша сморщился от горечи, от боли, от обиды и наконец заплакал.
ВОЖДЕЛЕНИЕ
Как было не радоваться юноше по фамилии Жолобков, стоящему на перроне железнодорожного вокзала в ожидании поезда. Ведь только что наступило лето, свежая зелень деревьев еще удивляла своей игрушечной новизной, вокзальные милиционеры с распаренными розовыми шарами короткостриженных голов весело щурились на яркое солнце, а в плацкартном вагоне семимильными шагами приближался к городу доктор Львов.
Приятнее человека Жолобков не знал ни до, ни, как через много лет выяснится, после. Небольшого роста, с живым, несколько обезьяньим лицом, тот отличался повышенной скоростью всех психических реакций, которая так нравится молодым людям, много рассуждающим о смысле жизни. При том что скорость эта, иным дающая большую фору в повседневной грызне, в случае с доктором была направлена лишь на бесшабашное какое–то полухулиганство, окрашенное веселой симпатией к окружающему миру. Схватить в охапку и крепко держать какого–нибудь молодого офицера, ведущего понурый строй обшарпанных солдат, и кричать: «Бегите, парни, отпускаем», — или поцеловать в лоб грозного ресторанного гарда, чтобы проскользнуть в заведение мимо натужившегося в сложной буре чувств лица — вот такие были ататуйские забавы. Впрочем, морду ему били редко, благо доктор успевал подружиться с раздосадованным объектом быстрее, чем тот принимал непростое решение.
Познакомились они вполне интересно. Когда Жолобкова призвали на морскую службу, то первые полтора года были посвящены сверхзадаче — во что бы то ни стало ему хотелось стать фельдшером лазаретов. Так называлась должность, которая сулила различные радости в свободное от эпидемий время. А пока он мыкал службу в Группе Освещения Воздушной и Надводной Обстановки, сокращенно в целях секретности — ГОВ и НО. Естественно, ему там не нравилось. Ибо все освещение состояло в протирании мокрой ветошью массивных приборов, которые, даром что электронные, умели мигать разноцветными лампочками на учениях, а в остальное время серыми гробами громоздились по углам и без того тесных помещений.
Пребывание в чреве корабля посреди северных морей длилось долгих полтора года, и солнце за это время он видел редко, а про зеленый цвет забыл совсем. Поэтому когда наконец свершилось и новорожденным матросом медицинской службы он отбыл с севера на юг в составе нового экипажа — тогда познал, что можно наслаждаться цветом. Уже первые, бледные и вялые листья северного мая заставили жадно раздувать ноздри, широко раскрывать глаза, а пальцы — трогать, мять, растирать, втирать в кожу непристойную, неуставную зелень. А потом их погрузили в поезд, и по мере продвижения к южным широтам мир начинал буйно меняться. Сначала плеснула и застыла нефритовая хвойная волна со светлыми прожилками лиственности, затем заклубились пышными облаками иные недолговечные леса, а после сладко и чувственно обволокло все кругом южное зеленичье. В конце пути, во флотском экипаже, посреди розовых кустов, щемящей пеной окружающих медблок, сидел матрос в белом халате и внимательно осматривал вновь прибывших на предмет лобковой вшивости.
Когда подошла очередь Жолобкова, матрос по неуловимым признакам (снисходительная к формальным действиям усмешка молодого специалиста, много ведающего о жизни и смерти) узнал в нем своего брата–медика.
— Львов. Доктор Львов (с первого курса они уже именовали друг друга докторами), — представился он, и затем доверительно: — Одеколон пьешь?
Жолобков был обрадован расположенностью коллеги и честно ответил:
— Пью, — хотя имел лишь смутное представление о таком способе употребления душистой воды.
— Я тоже, — мудро и печально сказал Львов, впервые в жизни прикупивший пару бутылок напитка с мужественным названием «Саша» и втайне обрадовавшийся совместной инициации.
— Закусывать будем фенозепамом, — предложил не лыком шитый Жолобков, и через полчаса после отбоя в отдельно расположенном здании медблока вопреки уставам и распорядкам уже разносилось вольно и предсказуемо: «Вчера я еще был другой челове–е–е-к, а теперь я совсем другой, и я верю во «вчера–а–а».
Словно из небытия прошлое любовное переживание, резко вынырнул из–за поворота пассажирский состав, и люди на перроне невольно ускорили ритм радостных движений. Поезд издал победный гудок и остановился, отдыхая и тяжело дыша. Всю ночь железная дорога ложилась под него, и он овладевал ею размеренно и деловито. Теперь же, в конце пути, они застыли в грузной механической истоме. Смышлеными соучастниками кинулись врассыпную утренние пассажиры, но на земле их уже заботливо встречали подоспевшие родственники и друзья.
Жолобков издалека заприметил доктора, который помогал спускать багаж какой–то тревожной старушке. «Понимаешь, незадача вышла, — вместо приветствия озабоченно сказал Львов подбежавшему другу, — вчера вечером выпил пива, лег спать, а вещи вот, бабушкины, подо мной оказались, в рундуке. А ей выходить рано утром нужно было. И вот сидела и меня разбудить не смела. Я проснулся — сидит, плачет. Вот тебе, бабушка, и Юрьев день». Старушка шмыгнула носом.
«Бабушка, не волнуйтесь. Я же обещал — доставим вас до дому, в лучшем виде, — он повернулся к Жолобкову, а тот молча подхватил неподъемные сумки и потащил к машине. Бабулявичус беспокойно семенил следом.
Когда уселись в автомобиль, то сразу Жолобков услышал запах. Это был тот затхлый запах безнадежности, который охватывает тебя в лесном буреломе, когда вкривь и вкось поваленные деревья источают одновременно прель трухи и могильную свежесть вывороченной земли, сумрачный аромат грибов и бодрый, ясный — хвои, горчащий на языке паро€€к лиственной падали и сладковатую сырость пышного мха. Это был запах старости. Он нес с собой мудрость смирения, когда вместе с морщинистым усталым телом одновременно дрябнет душа, и тихая слабая доброта становится лишь отражением печального бессилия. Так подумал Жолобков и побыстрее да пошире открыл окно. Старуха тихо и неподвижно, словно осенняя землеройка, сидела на заднем сиденье.
Ехать оказалось недалеко. Небольшая деревня в десяток старых покосившихся домов из серых от времени бревен смиренно притулилась возле спокойного озера. Вокруг нее виднелись заброшенные, дикой травой заросшие поля, невдалеке стоял нестарый сосновый лес. Когда проезжали по дороге сквозь него, Жолобков увидел, что каждое дерево растет из какого–то углубления, из небольшой ямы. Старуха, приближаясь к дому, потихоньку оживала и легко разрешила его немой вопрос: «Лагерь здесь раньше был. Финнов держали и наших, которые враги. И хоронили тут же. А вместо крестов дерево сажали в могилу. Потом–то земля просела, стали ямы везде». Лес тянулся далеко. Из него вдруг пахнуло сырым холодком.
Дом старухин оказался самым дряхлым из всех. Зато окружен был живой изгородью из кустов шиповника. Такой роскоши Жолобков с доктором не видели давно. Пушистыми розовыми шарами висели тяжелые цветы на ветках, что клонились и гнулись под весом этих гирлянд. Мерно жужжали пчелы, дурманящий запах сладкой ватой забивал ноздри. В миру был мир.
«Молочка, ребятки, молочка», — весело суетилась совсем ожившая и благодарная старуха и вприпрыжку тащила от соседки тяжелый глиняный кувшин, сразу же покрывшийся мелкими каплями холодной испарины. Жолобков приложился первым. Ему пришлось сделать над собой усилие для глотка. Потому что сильнее взрослого осознанного вкуса было детское воспоминание, как поила его собственная бабушка парным молоком, когда из города привозили его на лето в деревню. Молоко он любил, но только из бутылок с широким горлышком под крышками из тусклой фольги. Ничего, что за ним нужно было отстоять очередь в магазине, зато оно было стерильно, из порошка, и совсем без того запаха теплого вымени, навоза, травы, стойла, большого животного тела, который сразу представлялся ему и перехватывал горло тошнотой, чуть только бабушка почти насильно тыкала его носом в парную кринку.