Меир Шалев - Фонтанелла
Я был поражен. Мне было тогда лет семь-восемь, и никто до тех пор не называл Аню «симпатичной» и, уж конечно, не «твоей подругой», во всяком случае, не в разговоре со мной. Я был поражен и самими словами, и тем, что произнес их именно Арон.
— Дядя Арон сказал, что вы ничего не понимаете. Что такое молоток, если не очень тупой нож?
— Скажи своему дяде Арону, — засмеялся муж моей симпатичной подруги, — а что такое нож, если не очень острый молоток? — Улыбнулся и подозвал меня поближе, чтобы никто не слышал. — Приходи к нам и тогда, когда я дома, — сказал он. — Я могу показать тебе кое-что интересное.
Спустя несколько лет, когда я спросил Аню, почему он относился ко мне так хорошо и великодушно, она объяснила, что он всегда хотел познакомиться с другими мужчинами, которые в нее влюблялись.
— Что значит «познакомиться с другими мужчинами, которые в тебя влюблялись»? Я же был тогда совсем маленький, — сказал я с высоты своих взрослых пятнадцати лет.
— Он очень умный человек, — сказала она. — Все думали, что ты приходил из благодарности. Были также самозваные психологи, которые говорили, что сын Ханы Йофе нашел себе новую мать. Но Элиезер в первый же твой приход сказал мне: «Этот ребенок, Аня, которого ты вытащила из огня, влюбился в тебя, как мужчина влюбляется в женщину».
Вопрос затачивания не переставал волновать мысль Арона. Только несколько дней назад он вдруг выскочил из убежища, которое копает для нас под землей, и бросился ко мне, сильно обеспокоенный:
— Где тот нож, который я когда-то сделал для твоего отца, чтобы он мог резать салат одной рукой?
— У Айелет в пабе. Она нарезает им ростбиф.
— Ну, если он у нее, тогда всё в порядке. Просто я не хочу, чтобы мои ножи разбегались куда попало. Скажи, а те два, которые я дал тебе и Габриэлю перед армией? Эти где?
— Они у него, оба.
Его мечтой было заточить лезвие до толщины в одну молекулу:
— Нож должен резать только своим весом, руке остается вести его, как ведут скрипичный смычок или, скажем, хорошую авторучку, на которую даже нажимать нельзя, нужно просто указывать перу его путь на бумаге.
Как и мой отец, Арон разговаривал со мной, как со взрослым, но отец о любви, а он о работе.
— Мужчина должен умереть у своего верстака, — провозгласил он. — Слесарь — с электродом в руке, столяр — с пилой, врач — со стетоскопом. Как царь Саул упал на свой меч{30}, так мы должны умереть каждый со своим инструментом в руке.
— Мужчина должен умереть со своим инструментом в руке, — сообщил я вечером у семейного стола.
Отец и мать почти задохнулись. Она от возмущения, он от смеха.
А иногда, по дороге обратно домой, Арон сворачивал свой «пауэр-вагон» к деревне, что когда-то называлась «Вальдхайм» и в которой когда-то жили немцы, и показывал мне, где жил их слесарь, а где пекарь, а где священник, а где кузнец, и подвозил меня также к их кладбищу, где знал почти всех. Именно там, кстати, он научил меня читать «иностранные буквы». Медленно-медленно, по буквам, читали мы имена на памятниках: Франк, Штехер, Шмидт, Линкер, Олдорф, этот был кузнец, этот мясник, «а этот, — говорил Жених, — выращивал хумус».
Я смеялся — что немцам до хумуса?
— Когда они решали что-нибудь сделать, — говорил Жених со всей серьезностью, — они делали это самым наилучшим образом, и не важно, колбасы это, которые они привезли с собой оттуда, или хумус, который открыли для себя здесь. Есть они его не ели, но выращивать выращивали, и еще как. Лучше всех евреев и арабов, вместе взятых.
И потом указал на одну из могил и сказал:
— А вот это — дядя того немца, который женился на твоей тетке.
Я хорошо помню эти слова. Моя фонтанелла распахнулась им навстречу, а поскольку моя фонтанелла — не только дырка в голове, но также глаз и ухо, колодец и зеркало, и умеет чувствовать вкус, и немного нюхать и немного осязать, то эти слова показались мне и началом истории, и концом завещания, и печеной картошкой, и чернеющим входом в пещеру.
«Рейнгардт», — прочел я, медленно-медленно, букву за буквой.
* * *Большая ссора между Амумой и Апупой — та ссора, и ненависть, и разрыв, которые обрушились на них, когда Батия вышла за Гитлерюгенда, а Пнина неожиданно забеременела, — всё это было в те дни еще далеко. Поначалу между ними пролегли лишь самые простые и обыкновенные семейные трещинки, из тех, что обычно зарастают и потом открываются снова и снова, но это их не встревожило, потому что между ними было то, «что бывает в начале любви и потом прддерживает ее целую жизнь». Она лишь сердилась на него за простоватость, за вспыльчивость, а главное, потому, что со времени Похода не переставала его любить. А Апупа, у которого и раздражение было простоватым, сердился на себя, что не умеет играть на скрипке, и на Амуму, как я уже говорил, из-за еды, которую она варила.
— Твоя еда делает мне квас! — кричал он.
В наборе ощущений Апупы еда обладала вкусом любви, а в его словарном наборе, напомню, слово «квас» имело смысл чего-то тошнотворного, не «квеч» и не «квоч», а именно «квас», — как тот русский напиток коричневато-бурого цвета, который Дмитрий начал готовить и продавать в «Пабе Йофе».
Понятно, что, как и многие другие йофианские выражения, слово «квас» давно уже употребляется у нас не только в своем первозданном смысле. Жених, например, называет так и «теперешнюю молодежь», и «средства информации», и правительственных министров вкупе с армейскими начальниками и «этими ослами из кнессета» — выражение, которое он где-то услышал и присвоил с большим воодушевлением, — а также всевозможных деляг, которые раньше именовали себя «лидерами сионизма», а сегодня превратились в «жалких еврейчиков»: «Взошли в Страну, чтобы стать свободным народом, а теперь стонут, как стонали в галуте». Алона пользуется словом «квас», когда расказывает о мужьях некоторых своих «пашмин», а я называю этим словом тех дизайнеров, которые то и дело появляются в «Саду Йафе» со своими клиентами и дурят им головы разговорами о «средиземноморском аромате на пространстве вашей террасы», а также тех клиентов, которым подавай лимонные кипарисы, миниатюрные пальмы и эти огромные модные глиняные кувшины, что так и кренятся набок с томным вздохом: «Ах, нас только что сбросили с древнеримской триремы прямо в пучины кейсарийской гавани…»[42]
— А саженцы маслиновых деревьев у вас есть?
— Масличных? — Я подчеркиваю окончание. — Да, есть.
— Эта маслина, она растет быстро? Когда она вырастет?
— Когда мы все уже умрем, — говорю я с удовольствием.
— Может быть, у вас есть уже выросшая, большая маслина?
— Нет, у нас нет уже большой маслины. А вы не хотите посадить молодой саженец и смотреть, как он растет у вас в саду?
— Нет, у меня нет времени так долго ждать.
— А если мы найдем вам уже выросшую, большую маслину, какой вид вы предпочитаете?
— Вид? Какой еще «вид»? Маслина — это маслина. Достаньте мне какое-нибудь старое дерево от арабов. Деньги не проблема.
— Все-таки скажите, сколько вы готовы уплатить.
— Раньше вы скажите, сколько это мне будет стоить.
— Три-четыре тысячи за двух больших маслин.
Я получаю удовольствие от этих издевательств над языком.
— Включая доставку и ямы?
— Нет, — вмешивается Алона, — это отдельно, но зато мы дадим вам бесплатно речную гальку, для вашего палисадника….
Это наш с Алоной «квас». Но Апупин «квас» относился лишь к пище, которую варила Амума.
— Для рабочей скотины, которая ела только картофельное пюре, куриный суп, селедку и овощной салат, он был привередлив, как французский граф, — сказала Рахель. — Бедная мама готовила его идиотское пюре в точности так, как он любил, — с жареным луком, с маслом и кефиром, с крупной солью, которую он любил чувствовать на зубах, — и я не забуду, как она ставит тарелку на стол, делает этот свой один шаг назад, смотрит на него и ждет.
Апупа нюхал тарелку.
И если нос говорил ему, что она приготовила это пюре вчера, а сегодня только подогрела перед едой, он вставал, хватал кастрюлю и выбрасывал ее через окно. Буквально так.
И с тех пор, перед каждой едой, даже в дождь и в холод, окна у нас в кухне всегда открыты, и обо всем, что могло быть хуже, мы говорим — что мы говорим, Михаэль?
И тут мы с ней произносим — хором, в темноте, с одинаковой интонацией, насмешливостью и любовью: «Пюре пропало, но окно спасено». Эту фразу Йофы по сей день произносят всякий раз, когда случается беда, которая могла бы обернуться катастрофой. Например, когда Айелет в очередной раз калечит свой маленький грузовой «рено», который купил ей Жених, а сама, как обычно, выходит из этого без царапины.
По правде говоря, кулинарные требования Апупы были такими же простыми, как он сам, такими простыми, что он не понимал, почему Амуме не удается их выполнить. Свою селедку, например, он любил со сметаной и с зелеными яблоками. Если Амума нарезала яблоки тоньше обычного, он кричал: «Твоя селедка сладкая, как компот!» — а если толще: «Твоя селедка не может плавать!» Но самый большой скандал он подымал вокруг супа, простого куриного супа, приготовленного вечером в пятницу, в канун субботы, из недельной «курицы, которая не старалась».
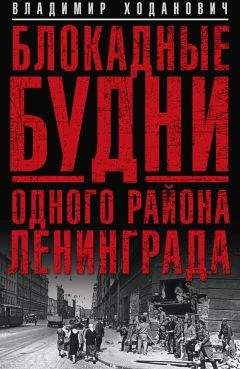

![Александр Солженицын - Русский вопрос на рубеже веков [сборник]](/uploads/posts/books/142120/142120.jpg)
