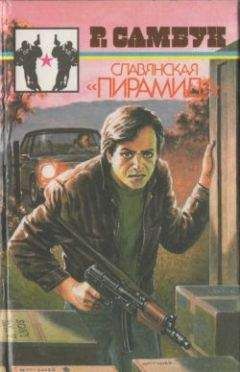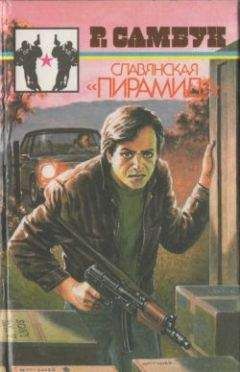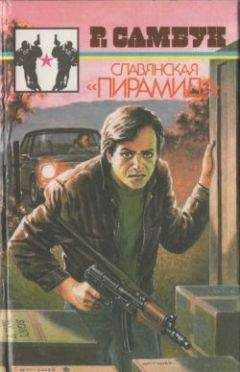Феликс убил Лару - Липскеров Дмитрий Михайлович
В первую же ночь она вдруг увидела и почувствовала в нем то, о чем прежде никогда не читала, чего и предполагать не могла. Не желание ощутила, даже не любовь – а животную страсть, которую раньше и не предполагала в людях. Ее мысль дернулась и тотчас ушла, растворясь в ночном дыхании киргизской степи. Тело ощутило приход во все его клетки неизведанного до этой минуты состояния, и она закричала – молча, впервые широко раскрыв рот, изливая из него внезапно открывшийся в ней чувственный гений…
Потом Кабул, одиночество, штабные офицеры, Чечня, госпиталь в Москве, переезд в Киргизстан, жизнь в оседлом ауле, бескровная война Протасова с киргизами. Их отъезд из аула… Хотя когда это было? Вчера или завтра? И имеет ли это какое-то значение?
Он привел с той войны трофей – невзрачного Конька с ослиными ушами, и сказал ей просто, что они улетают из этого места через несколько дней, что надо готовиться. Она не спрашивала куда и что такое «улетаем», она во всем его слушала, никогда и ничего не уточняя – впрочем, как когда-то слушала погибшего Сашу. Они нагрузили на Конька тюки со своим скарбом, сели ему на спину, Конек разбежался – и взлетел в ночное небо…
Она проснулась совершенно счастливая, когда солнце разлилось своим светом по степи, и услышала звук бурлящей реки. Ольга открыла глаза – а перед ней две горыблизнецы, как на папиной карте.
Она лежала на стеганом матрасе, притянув к себе острые колени, и улыбалась, глядя, как он плавает голым, ныряет, сражаясь с накатывающими волнами быстрой реки. А потом, скинув с себя теплую тельняшку, нагой бросилась к нему, и закрутила их река как ветки саксаула. Она обхватила его за шею и все смеялась, слегка шлепая ладошкой по его лысой голове. А потом он открыл рот и показал зажатый в зубах камешек блинчиком, блеснувший на солнце золотом, будто не отражал солнечный свет, а сам его источал. Они поплыли к берегу и лежали на горячей земле, пока не согрелись. А потом она достала из рюкзака паспорт, из-под обложки которого вытащила обрывок тетрадного листка с начертанной простым карандашом картой этого места, с кругом в центре и двумя буквами «Au» внутри. Он неплохо знал таблицу Менделеева. Такие латинские сокращения драгметаллов знали все мальчишки-одноклассники, читавшие приключенческие книги Майн Рида. На страсть к испытаниям их и ловил учитель химии по фамилии Радиев. Говорили, что его родители или родственники открыли радиоактивный химический элемент радий, «Ra»… Знали про платину, «Pt», что она еще дороже золота, а еще дороже, на порядки – редкоземельные металлы, на пятьдесят грамм которых можно заново построить Москву. Конечно, в такую ерунду подростки не верили, но то, что золото с платиной стоят дороже новенькой «Волги», знал каждый. Они обыскали свои квартиры, но приключенческих кладов так и не нашли. Семиклассник Дрюкин, у которого мама была того, психическая – с кольцом в носу, хиппи, – попытался обокрасть стоматологическую поликлинику: из-за слухов, что в медучреждении хранится четыре кило золота для изготовления коронок. Чудика поймали, и даже судьи смеялись над дурачком, понимая, что таким количеством всю область можно украсить золотыми улыбками. Дали условно, а потом поставили на учет в психдиспансер, рядом с мамой.
Он выплюнул на ладонь округлый, тысячелетиями обтачиваемый проточной водой самородок и протянул ей. Она засмеялась. И совсем не из-за найденного золота родился ее смех, а оттого, что они нашли его вместе, наитием двух родных душ, которые хранили души ее родителей – оттуда, с небес.
Потом они ели тушенку с помидорами, пока Конек отсыпался, пили воду прямо из реки и ныряли, собирая с ее неглубокого дна самородки, которых было видимо-невидимо, и сияли они со дна так нестерпимо ярко, будто само солнце упало в реку.
Через два дня они улетели в незнакомый город Кара-Болта, и поселились на его окраине. Она готовила ему рассольники и пельмени, а он трудился в крошечной мастерской: устроил небольшой плавильный цех и переплавлял самородное золото в стограммовые слитки и складывал их в укромном месте, подвязывая клад к ветке миндального дерева во дворе. А еще он плавил из самородков толстые обручальные кольца. Киргизы любили именно тяжелые, чтобы со временем золото вросло в мясистые пальцы.
Иногда он уходил к вокзалу, где через каждые два метра стояли чьи-нибудь «Жигули», на лобовых стеклах которых были как под копирку прикреплены таблички с предложением купить у населения ценные вещи: серебро, золото, платину, часы и прочее. Несколько раз он продал за скромную цену «жирники» – так называли в Кара-Болта толстые обручальные кольца. За «скромную» – так как не было пробы. Сначала его подозревали в продаже цыганского самоварного золота, но после проверок, показавших чистоту металла близкую к трем девяткам, давали четверть цены. Он не торговался, отдавал за сколько просили. На прибыль от торговли они с Ольгой и жили.
В те редкие ночные часы, когда они отдыхали от страсти, он думал о том, что даже не предполагал, что какая-то женщина станет его частью. Душой, сердцем, мозгом… А она в то же время считала его не частью себя, а всей Вселенной, живущей в ней: в ее душе, сердце, мозгу…
А потом в их жилище пришли с оружием. Несколько часов обыскивали, но так ничего и не нашли. Ее оставили, не тронув, а его забрали.
Группировка «Арстан тырмактары» – «Когти льва» только набирала криминальную силу, а потому братки пока ходили под другим криминальным авторитетом, китайцем по кличке Мао, который в свою очередь лежал под еще десятком начинающих осваивать бандитизм киргизских пацанов.
Протасова били в подвале какой-то заброшенной забегаловки, выпытывая, где он нарыл золото. Били непрофессионально, даже мышцы не могли пробить, чтобы достать до органов. Он театрально стонал и оправдывался: мол, бабкину браслетку расплавил, а частями сдавал, чтобы не пропить сразу.
Самонадеянные «Когти» поверили, что это простой русский лошара, алкаш, как все русские – вон, вся башка дырявая, – даже дали рюмку выпить, после которой еще раз заехали кулаком в челюсть и поинтересовались сколько еще от бабкиной браслетки осталось.
– Грамма два, – ответил Протасов.
– Притащишь! – приказал главный. – А то!..
– Так у меня с собой, – признался русский лох.
Ему развязали руки, он расстегнул ремень и вытащил из секретного кармашка золотую крупинку.
Киргизские пацаны тотчас переругались между собой, обвиняя друг друга в том, что обыскивать надо пленных, а то вместо золота за ремнем и нож мог быть спрятан.
Их было много, но все равно зря они его развязали. Он их сильно не бил – просто развлекался, отвешивая оплеухи и поджопники, пока они как тараканы ползали по грязному полу подвала, вытирая его лицами и пуская из окровавленных ртов красные слюни. А потом привычно закончил расправу, скрутив каждого так, чтобы нос нюхал собственную жопу.
Поскольку подвал находился в заброшенном строении, а позвать на помощь они могли – чего орать в собственную задницу, – то минимум трое суток они валялись, корчась, пока не выдержал первый, вернее его кишечник, и вывалил содержимое в штаны. Остальные кишечники последовали его примеру, словно спевшиеся в одном хоре, и произвели столько, что даже бомжары, промышляющие по самым гнусным помойкам, натыкаясь на забегаловку, мчались от нее со всех ног – от адской вони, почти армейской атаки сероводородом.
Кто-то смог развязаться и, блюя, ползая в лужах общей мочи, помог остальным. Бандосы нашли шланг и полоскались под холодной струей несколько часов, смывая фекалии, затем стирали портки и заодно решили никому не говорить о том, что с ними случилось. Позору от этой истории было бы столько, что их бы не только бычками в бригады не взяли, а просто выгнали бы из города в степь, чтобы там шакалов пугать. Даже родственники бы не заступились… Короче, поклялись друг перед другом держать киргизскую омерту!
Протасов вернулся домой, обнял жену и целовал в белую нежную шею, пока она окончательно не успокоилась. Он сказал, что хулиганы не вернутся, и она поверила, попросив его все же быть поосторожнее. Им много денег не надо – только на жизнь и на ребеночка откладывать.