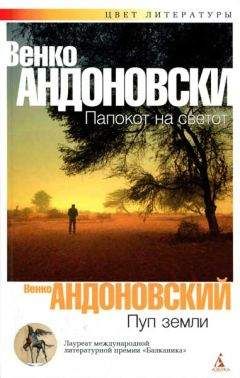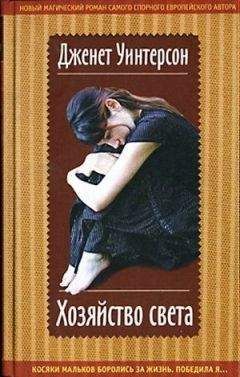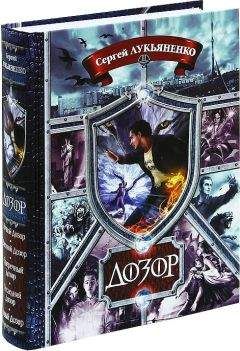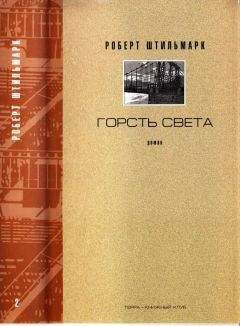Пуп света: (Роман в трёх шрифтах и одной рукописи света) - Андоновский Венко
Итак, теперь я пишу две книги: одна говорит, кто я теперь, я как я, а другая — кто я был, то есть я как он.
Я КАК ОН
Снаружи это крошечная розовая железнодорожная сторожка со шлагбаумом перед одноколейкой. На единственном окне хибары толстый слой грязи. Предыдущий сторож, видимо, развлекался тем, что давил мух, прижимая их занавеской к стеклу. Дверь открыта. Через дверь в домик вливается острый запах, пахнет пропиткой для деревянных шпал; пахнет железной дорогой, возбуждением от предстоящего путешествия. Машинным маслом, мочой, скоротечностью. Расставаниями, которые и составляют суть жизни. Поэтому святые старцы говорят: мы пришли в этот мир не для наслаждений (можно ли наслаждаться расставаниями?), а для того, чтобы спастись от него, сохранить свои души для того мира.
Внутри: деревянный стол, на нём брошюрка с расписанием поездов и точным временем, когда нужно опустить шлагбаум. Рядом чёрный стационарный телефон с вертящимся диском для набора номера, с чёрным шнуром, идущим к трубке, который местами растрескался, так что видны жёлтый и красный провода. Чистая анатомия профанной мистики: когда начальник говорит по телефону, говорит не он, а жёлтый провод и красный провод. Один приказывает, другой одобряет твои просьбы. Чистое мирское послушание. Рядом с музейным телефоном: жестяная пепельница, пустая, но чёрная и немытая, очевидно, украденная из какой-то пивной в городке; с трудом можно разглядеть, что когда-то она была небесно-голубого цвета. Позади стола кровать с нечистым бельём. Простыня с масляными пятнами от банок из-под рыбных консервов, которые, видимо, были любимой едой моего предшественника. Пустыми жестянками полна мусорная корзина, они вонючие, как забытые менструальные прокладки, а после вскрытия острым ножом стали похожи на ботинки, у которых оторвались подмётки, и они просят каши. Маленький санузел, дверь открыта, и через неё виден унитаз без сиденья, а над ним лейка душа; ясно, что принимать душ придётся, раскорячившись над унитазом, это если тут вообще есть бойлер. Запах аммиака и налитой наспех соляной кислоты, доносящийся из туалета, мешает вдыхать опиатный запах железнодорожных шпал.
Если немного пофантазировать, можно было бы сказать, что то, что я вижу — нечто крайне скромное, почти пустота. Или, что я вижу нехватку чего-то. Но это ошибка. Нехватка вовсе не пуста. Она самая наполненная вещь в мире. Нехватка немедленно наполняется желанием, являющимся в человеке самым полным чувством; нет ничего более полного, чем страстное желание, которое может родиться только из пустоты. Избыток порождает лишь скуку и отсутствие любопытства. Будь фантазии ещё больше, можно было бы сказать, что то, что я вижу, я вижу не глазом, а сердцем, потому что зрительный нерв, вопреки научным заблуждениям, заканчивается не в мозгу, а в сердце. Визуальное не в том, что мы видим, и не в глазу, которым мы это видим; оно в созерцающем сердце. Да: глаз только видит, и этот стол с чёрным телефоном видит только он, а сердце истолковывает увиденное, а потому, говорю я, оно созерцает, добавляя к увиденному самое бесценное в человеке — чувство. Картинка не может быть ничем иным, кроме как чувством, потому мы и картинки запоминаем по чувствам, которые они в нас вызвали, а не по топографии картинки, иначе мы были бы фотоаппаратами. Рассматривать образы и при этом не испытывать никаких чувств может быть особенностью бессловесных существ — животных. Хотя я не верю, что это правда: у обычной собаки меняется выражение физиономии, когда она видит, что перед ней что-то происходит. Пожалуй, правильнее всего будет сказать, что только мёртвые, если они вообще видят, могут видеть образы без чувств.
В детстве, когда мне не было и шести лет, умер дядя Митя, и я впервые узнал, что мёртвые уезжают «в командировку» (так мне сказали), из которой не скоро вернутся, и меня стала мучить такая мысль: представь, что ты умер. Но не перестал видеть. Ты просто перестал чувствовать: ты видишь, что проводят вскрытие твоего тела, но это не больно. Ты смотришь на людей, плачущих у гроба, но тебе их не жалко, как не жалко и самого себя, из-за которого они плачут. Ты даже видишь, как тебе лоб и видящие глаза (а никто не знает, что ты глядишь так, бесчувственно) накрывают саваном, тебя засыпают землёй, и опять тебе не жалко ни их, ни себя. Тебе даже не страшно, что с тобой делают это, не проверив, видишь ли ты ещё и слышишь ли. Потому что не знают, что зрительный нерв у живых заканчивается в сердце, а у мёртвых в мозгу, который гаснет медленно, несколько часов после смерти. Так что если научное предположение верно, то в этот момент ты можешь оперировать только понятиями «жалость» и «страх», а не чувствами. Если покойники вообще мертвы, то смерть для них есть состояние мышления чистыми понятиями, что по определению исключает чувства и личность.
Если так обстоит дело со зрением мёртвых и живых, тогда то, что я сейчас смотрю на всё вокруг, есть всё же чувственное видение живого человека — и это страстное желание. Картина от сердца, картина с самым сильным чувством. Это не стол, это желание написать на нём роман; это не телефон, это желание набрать номер любимой. Я чувствую только страстное желание после того, как очутился здесь, в этом месте, где у меня нет ничего своего. Вот почему мне нравится это жуткое место.
Чего я больше всего жажду сейчас? Единственное желание, которое у меня есть в этот момент — это встретить первый поезд и впервые в жизни опустить шлагбаум на железнодорожном переезде. И впервые в жизни сделать что-то правильно и вовремя, пусть даже просто опустить шлагбаум.
— В этой работе главная философия — послушание. Просто смотри, что написано в расписании и слушай инструкции по телефону, и ты станешь отличным сторожем — так сказал начальник станции, направляя меня сюда, и я тогда не понял, что моё послушничество уже началось. Там, на железнодорожной отметке 111, напротив бывших заводов «Црвена застава», которые теперь назывались Fiat.
— Не могу дать тебе другую должность. С этим твоим образованием, магистратурой и докторатом по языкам… только туда. Если бы у тебя было хотя бы среднее железнодорожное, я бы сделал тебя кондуктором, — так он сказал.
В глазах у него я прочитал зависть, что он не на моём месте: быть человеком, который довольствуется малым. Потому что мудрость — это освобождение от ненужного, а самое ненужное — это амбиции. За карьеру успешного начальника станции приходится платить: завистью.
* * *
Я сижу на стуле перед домом, положив ноги на другой стул и наслаждаюсь тем, что молчу, что мне не нужно говорить; наслаждаюсь также тишиной мира вокруг. Часы на здании заводоуправления «Црвена застава» показывают полдень; это время, когда даже у живых нет тени, как будто они умерли. Летний полдень — самое глухое время дня; поэтому мне смешно, когда говорят «глухая ночь», потому что ночь может быть какой угодно, только не глухой: все насекомые, змеи и скорпионы вылезают из своих нор именно ночью. Люди по ночам воруют, играют в карты, прелюбодействуют, бандиты грабят. Но полдень, полдень — это действительно слепое пятно дня. Особенно летний полдень. Всё неподвижно, всё как будто умерло, как будто это секунда перед Воскресением, когда всё снова оживёт и день устремится, как водопад, навстречу своей смерти, навстречу вечеру и ночи.
Эту совершенную тишину нарушают только две вещи: цикады, которые стрекочут так, словно их бросили во фритюрницу с раскалённым маслом, и время от времени поскрипывание от лёгкого ветерка фонаря, висящего на одном из шлагбаумов. На другом фонаря нет: он, наверное, давно разбит. Мне на лицо садится муха.
Я её не гоню, она меня совершенно не беспокоит. Я слит с миром воедино, я словно под какими-то опиатами.
Я свободен, пригвождён к одной точке, но свободен. Смотрю налево вдоль железнодорожного пути: рельсы вдалеке сходятся в мареве, жарких испарениях, как в пустыне. Иллюзия, что там есть вода, а где вода, там и жизнь: знаменитый эффект Сахары. Потом смотрю направо: то же самое. Бесконечная перспектива пути, уходящего в кажущуюся жаркую дымку. Я опускаю свою красную железнодорожную фуражку на глаза и медитирую. Осознаю, что и Восток, и Запад — это иллюзия: обычный мираж, вода, которой нет, но марево лжёт, что она есть, что она испаряется.