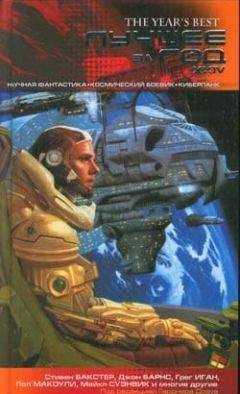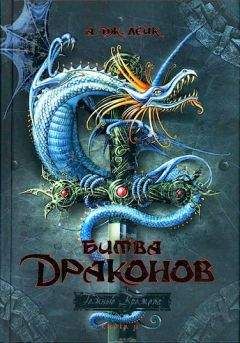День между пятницей и воскресеньем - Лейк Ирина
Она помахала усатому механику и помчалась домой.
Мама, к счастью, вовсе не злилась, а была в прекрасном настроении — Мишенька спал в коляске во дворе, в беседке, заплетенной виноградом, а мама готовила на кухне и даже не накричала на Лиду, что так долго просидела на аэродроме. Та кинулась помогать ей с готовкой, а про себя все думала, что напишет сегодня Лене в письме. Потом к ним заглянула соседка одолжить мясорубку да заболталась почти на час, потом проснулся Мишенька, они и не заметили, как день покатился к закату. Обычный день с домашними хлопотами, ничего особенного. Только вот когда Лидочка проверяла в очередной раз жаркое и пироги в духовке, вдалеке как будто что-то грохнуло. Она глянула в окно — все по-прежнему, облака на небе, цветы в палисаднике.
— Наверное, опять газовый баллон у кого-то, — сказала мама. — Как в тот раз у Якушевых. Что за народ? Выпьют и начинают баллоны менять. Господи, хоть бы никто не покалечился. Вот дурни-то.
Вечерело, стало смеркаться, а папы все не было. Лидочка боялась, что у мамы сейчас испортится настроение, и тогда все пропало — она запросто могла выбросить еду на помойку или отдать поросятам, а потом закатить папе скандал. Скандала Лидочке совсем не хотелось. Она пошла к себе в комнату проверить вещи, которые собрала для Москвы, ей вдруг показалось, что она забыла шерстяную юбку, а осенью она очень пригодилась бы ей ходить на занятия. Юбка, конечно, была в чемодане, лежала на самом дне. И там же Ленина перчатка. Лидочка прижала ее к лицу и вдохнула запах. Потом положила обратно в чемодан и вышла во двор, а потом за ворота, посмотреть, не идет ли папа. Что-то он сильно задерживался.
Она постояла минут пять, на улице никого не было, все как раз разошлись по домам, загнали со двора детей, уселись ужинать. Она посмотрела, как дрожат на ветру листья на старых тополях, опять подумала про Леню, улыбнулась и уже собиралась зайти во двор, как вдруг увидела, что со стороны аэродрома кто-то бежит. Кто-то полный, грузный, он бежал, припадая на ногу, прихрамывал и махал ей одной рукой, а второй то и дело вытирал лицо. Она сначала не поняла, кто это, а потом вообще перестала понимать, слышать, видеть и дышать. Когда она вспоминала тот день, то каждый раз сомневалась, был ли он на самом деле или она просто провалилась в бесконечно глубокую черную дыру. Человек подбежал ближе, и она разглядела, что это Михалыч, но с ним что-то было не так, и она даже хотела пошутить, но тут увидела, что он плачет, и вдруг инстинктивно сделала шаг назад. Она не знала, в тот ли момент обо всем догадалась, или когда прочла по его губам слово, которое он повторял: «Беда. Беда». Тогда она резко развернулась и кинулась во двор, чтобы убежать, как маленькая, убежать от этого слова, от всего, что будет потом. А потом она почти ничего не помнила, только то, как кричала мама и кидалась на людей, которых у них во дворе вдруг оказалось так много, очень много…
Папин самолет упал совсем недалеко, на огромном картофельном поле за лесом, почти у реки, рядом не было домов, рядом вообще ничего не было, никто не пострадал. Папа погиб. И все переменилось навсегда.
Следующие два дня Лида почти не помнила. Все время нужно было что-то делать, ей что-то говорили, куда-то звали, но она сидела на табуретке, на той самой, где в то утро сидел папа, и смотрела в окно. Она ждала, что он придет. По дому ходили какие-то женщины в черных платках, а мама все время давала указания, все время командовала, что кому делать, она не проронила ни слезинки, говорила очень громко и вела себя так, будто собирала папу в командировку или в долгий рейс:
— Так, лучше вон тот костюм взять, он хороший, ему идет сильно. Нет, в форме не надо. Зачем ему в форме лежать? Рубашку, Таня, слышишь, рубашку ему надо голубую, но и белую тоже возьмите. На всякий случай. Галстук? Точно, галстук надо… Где галстуки-то все у него? Сто раз говорила, взял — повесь обратно, что за человек такой… Ага, вот галстуки. Да, лучше этот, с полоской, это я ему покупала. Поехала тогда в город, а там в универмаге большом на площади как раз нашла галстук вот этот, слышишь, Таня?
Мать говорила и говорила, не останавливаясь, как радио. Никакой Тани рядом с ней не было. Лида не знала, к кому она обращается, она смотрела на нее как сквозь огромную линзу, как будто мать была где-то в аквариуме или в телевизоре. Как будто Лида все слышала, но при этом оглохла.
Потом привезли гроб с каким-то чужим мужчиной. Дом сразу наполнился непрекращающимся бабьим воем. Лиду заставили надеть шерстяное черное платье и повязать черный платок. Она надела, не сопротивлялась, ходила, кивала, здоровалась, смотрела на всех, иногда выполняла мамины приказы, потом кто-то потянул ее за рукав и велел сесть возле гроба, мол, так положено. Она села и послушно сидела. Смотреть на чужого мертвого человека было странно и страшно, и она посмотрела на пол: между табуретками, на которых стоял гроб, на полу почему-то оказался большой алюминиевый таз, полный соли. Белая гора. Лида посмотрела на эту соль и стала вспоминать, как папа катал ее на санках по снегу, как быстро он бежал, а потом отпускал ее, и она мчалась с горки, и как жутко и одновременно счастливо ей от этого делалось. А теперь ничего этого никогда не будет. Теперь все изменилось.
— Зачем? — вдруг спросила она. Ни о чем и в никуда.
— Что зачем? — прошамкал рядом старушечий голос. — Зачем соль?
— Да, — сказала Лида.
— Так это ж всегда под покойников ставят. Жара же. Вот затем и соль.
— Зачем? — опять спросила Лида.
— Чтоб не завонялся. Запаху чтобы не было.
Лида медленно поднялась, вышла на улицу, зашла за беседку, увитую виноградом, и ее вырвало.
Как бы она хотела, чтобы этих дней не было. Они и прошли как будто в забытьи. А субботы не было вовсе. Никакой субботы не было. Вместо субботы были похороны.
На следующее утро после похорон мать растолкала ее очень рано, на улице только начало светать.
— Вставай, — строго сказала она. — Одевайся, Лида, пора, пойдем.
— Куда? — Спросонья Лидочка ничего не могла понять, да еще кто-то из тех женщин в черных платках дал ей вчера таблетку, от которой она провалилась в вязкую глубину и никак не могла выбраться оттуда, чтобы хотя бы вдохнуть воздуха. Голова кружилась, очень хотелось вернуться в реальность, только реальности теперь не было.
— Надо отцу завтрак нести, вставай, — велела мать и быстро вышла из комнаты.
Лида наспех оделась и вышла на кухню. Мать перекладывала на большую папину тарелку — его любимую, с васильками по краю — яичницу со сковороды.
— Так и понесешь, ничего страшного, — сказала она. — А я сумку возьму с хлебом, с пирожками. Может, еще колбаски домашней порезать?
— Катя, так надо кутью нести на погост, такой обычай ведь, — робко отозвалась Лидина бабушка, которая приехала из соседнего села. — Наутро, как похоронят, на кладбище кутью несут, а ты, вон, собрала целый стол.
— Кутьей он не наестся. — Мать нахмурила брови. — Он же голодный. Он голодный совсем, мама! Скажет тоже, кутья. Пойдем, Лида. Бери тарелку, да под ноги смотри, не споткнись. Стой, перцем посыпь. Он с перцем любит. Вот так. Теперь пошли.
— Она отойдет, — шепнула Лиде бабушка. — Это она от горя такая, Лидунь. Потом придет в себя, выплачется и отойдет мамка-то…
Бабушка ошибалась. С тех пор каждое утро мама Лиды вставала с рассветом, будила Лиду, жарила яичницу, заталкивала в коляску сонного или орущего Мишеньку — ей было все равно, набирала сумку еды, и они шли на кладбище. Там на могиле мать расставляла еду на вколоченном в землю деревянном столике, а тарелку с яичницей ставила прямо на холмик, сдвинув в стороны венки с лентами. По выходным она брала с собой бутылку самогона и наливала папе стопочку. Усаживалась на лавочку и начинала рассказывать отцу все, что она делала, что видела, кого встречала и о чем думала. Потом рассыпала по могиле пшено для птиц, и они шли домой. Всю дорогу, и туда, и обратно, она повторяла как заведенная: «Он голодный, голодный он, Лида».