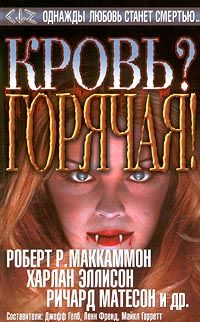Всё, что у меня есть - Марстейн Труде
— Да нет, — успокаивала ее мама, — в тебе столько любви, что ее сполна хватит еще на одного.
Юнас и Стиан гонялись друг за другом по лужайке с игрушечными мечами, крича во все горло. И смысл маминых слов был понятен: если твоя любовь к ним безгранична, как теперь, не имеет значения, кто у тебя родится, твоей любви хватит в любом случае. Но что, если у Элизы в глубине души нет-нет да и мелькнет сомнение в том, настолько ли безгранично она их любит?
Когда я в первый раз увидела, как Ульрик сидит на полу и натягивает защиту на футбольные гетры, я почувствовала нежность, которая нарастала как снежный ком с каждым разом, когда я видела его и проводила с ним время. Я была так влюблена в Эйстейна и во все, что имело к нему отношение, — в лишенные единого стиля предметы мебели, в разномастные чашки, в его почерк и его смех, и в пивные кружки в ванной, и в Ульрика. И эта нежность заполняла меня целиком, выплескивалась наружу, и мне хотелось рассказать о ней — Эйстейну, Элизе — как можно скорее. Я позвонила Элизе и призналась, что моя влюбленность перешла в какое-то иное состояние, возможно в любовь. И Элиза отреагировала на это с материнской гордостью, словно ее усилия в воспитании собственного ребенка увенчались успехом. Я стала часто ей звонить и рассказывать про Ульрика, что он сказал или сделал. А потом я забеременела. Тогда Элиза расплакалась в трубку. Мама не плакала; казалось, она боялась, что ее радость окажется преждевременной. Время тянулось так медленно. Я рассматривала картинки в книге, которые рассказывали об этапах развития плода.
— Боже мой, у него уже есть ноздри, — восхищалась я.
Эйстейн был так счастлив, он хотел близости со мной и обещал быть осторожным. Я тоже не возражала, но мысли мои в этот момент витали где-то далеко. В дыхании Эйстейна чувствовался запах металла и вареной картошки, руки пахли клеем и изюмом. Каждое утро запахи вокруг меня казались незнакомыми, ступени лестницы были чужими, привкус ложки во рту, сырный дух в холодильнике — в зеркале я сама себе казалась другим человеком, и даже мой собственный пот приобрел другой запах.
На деревьях набухли почки. Какой-то школьный оркестр репетирует ко Дню конституции, звуки громкой и нестройной музыки нарастают, но когда приходит автобус, мне удается улизнуть. Я доезжаю до больницы в Уллеволе, и мне нужно чем-то занять еще более получаса перед встречей с Кристин. Я покупаю светло-голубой костюмчик для новорожденных в небольшом магазине неподалеку и книгу «Английский пациент» в мягком переплете, хотя я сомневаюсь, что Элиза будет ее читать. Я думаю, книга бы ей понравилась, если бы у нее были время и возможность внимательно ее прочесть. Еще я покупаю шоколадку и пачку сигарет; я знаю, что не смогу одержать эмоции, во всяком случае, предполагаю это. Я пью кофе в больничном кафетерии, разглядываю коридоры с серым линолеумом и шаркающими пациентами в больничных пижамах. И вот я вижу Кристин. Она подрезала челку, и я не уверена, что ей идет.
Элиза с трудом передвигается по больничному коридору — из-за расхождения тазовых костей она ходит на костылях, рядом с ней вышагивает Ян Улав и катит в люльке ребенка. Элиза широко и задорно улыбается, словно хочет сказать: «Теперь я на сто процентов мальчишеская мама». Мы присаживаемся в вестибюле на диванчик, я кладу малыша на колени. У него шея в складках, волосики на макушке, он тяжелый и не издает ни звука, медленно оглядывая все вокруг.
— Привет, дружочек, — говорю я.
— На этот раз нам довелось рожать в столице, — произносит Ян Улав.
Я передаю малыша Кристин, она уже протянула руки, чтобы взять новорожденного.
— О, как же мне хочется еще одного ребеночка, — говорит она, глядя на него. — Ты так сладко пахнешь.
— Он очень смышленый, — говорит Элиза. Она сидит, склонившись к Кристин, и с улыбкой смотрит на своего малыша.
— Мы думаем назвать его Сондре, — она поднимает голову, — как считаете?
— Прекрасное имя, — отвечаем мы почти хором. Малыш беспорядочно двигает ручками, соединяя кончики пальцев и разводя ручки в стороны. Я смотрю на Яна Улава, который наблюдает за движениями своего младшего сына.
— Он напоминает кого-то из обитателей морей, морскую звезду или медузу, — замечает он.
Как же много я не знаю о Яне Улаве. И я думаю о том, что, когда говорит Ян Улав, я часто вижу на лице Элизы ожидание, нетерпеливое и умоляющее выражение, как будто она надеется, что что-то произойдет, что он переменится, продемонстрирует то, что, как она знает, скрыто в нем и она уже видела это.
Однажды в стоматологической клинике, в которой работают Ян Улав и его отец, я видела, как Ян Улав успокаивал испуганную девочку-подростка. Я не собиралась лечить зубы, но Гунилла, секретарь на ресепшен, отправила меня к нему в кабинет — я пришла отдать ему сапожки, которые обменяла для Элизы в магазине. Я остановилась в дверях и наблюдала за Яном Улавом и его пациенткой. Девочка делала вид, что ей гораздо страшнее, чем было на самом деле. Однако Ян Улав проявил выдержку, чувство юмора и в то же время настойчивость, а в целом — заботу, которую я никогда не замечала в его отношении к кому-либо из своих сыновей или к Элизе.
«Пообещай мне одну вещь, — сказал он. — Начни полоскать рот раствором с фтором, это важно, когда стоят брекеты. Не пожалеешь. Ты уже встречаешься с мальчиками? Нет? Ну, это уже не за горами. Вот тогда тебе понадобятся красивые зубки, во всяком случае, я так считаю».
Ян Улав поднимается и говорит, что ему пора ехать домой, во Фредрикстад, к Юнасу и Стиану, которые остались дома одни и едят на обед готовую пиццу, и как только он скрывается из виду, я произношу:
— Я должна рассказать вам кое-что.
И я рассказываю им о том, что вот-вот произойдет в моей жизни. Элиза смотрит недоверчиво.
— Как ты можешь так поступать? Не делай этого! Не надо! — Она перекладывает малыша с одной руки на другую. Она говорит, что мне надо попытаться забеременеть еще раз, что это мой последний шанс.
— Тебе уже тридцать четыре, — продолжает она.
Но ей-то самой уже сорок, и она только что родила ребенка. Элиза увещевает, как это часто бывает, словно на автопилоте, исходя из старых, набивших оскомину установок и настроек, к которым у нее никогда нет вопросов и которые не нужно обновлять, или она не хочет этого делать, или просто не видит в этом необходимости. Но я думаю, что за этими традиционными взглядами кроются фантазии и возбужденное любопытство: как насчет секса с кем-то другим, кроме Яна Улава? Что, если начать все сначала? Что, если перестать натирать столовые приборы до блеска и решиться на что-то другое? А не ходить по дому и обрезать увядшие листья комнатных растений, не складывать нижнее белье Яна Улава, как привыкла? Не рожать третьего ребенка, когда двух первых было и так предостаточно?
— А что, если я не хочу с ним спать? — я обвожу всех взглядом. Элиза заводит свою пластинку о том, что нельзя думать только о себе, но ведь это нелепо. Я что же, теперь должна ложиться в постель с Эйстейном и рожать от него детей в качестве самопожертвования? Ради него? Ради детей? А разве в основе появления на свет детей лежат не эгоистические соображения?
Элиза переводит дыхание, отодвигается, ее лицо искажается от боли, и с чувством собственного достоинства она объявляет, что у нее болят швы после разрывов, и я вижу, что она понимает: у нее не осталось веских аргументов. Понимает: всем нам очевидно, что ее жизнь совсем не та, к которой нужно стремиться. Я представляю, как она могла бы сказать: «Это не убедительно. Рождение ребенка значит гораздо больше, чем все остальное». И при этом могла бы сделать резкое, отрывистое движение рукой, словно отрезать: не убедительно.
Но она просто сидит молча, прижавшись губами к головке малыша.
— Вот у нас с Иваром прошло больше года с того момента, как мы начали пытаться зачать ребенка, до того, как я забеременела Ньолом, — вступает Кристин. — Ведь и вправду может быть слишком поздно.