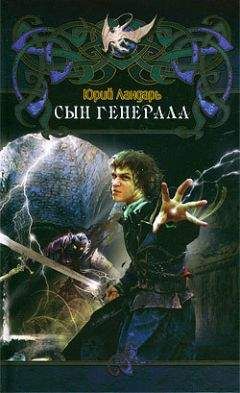Юрий Трифонов - Старик
— Где ты был так поздно? Я звонила домой, звонила Леониду Васильевичу…
В глазах зажглось живое, острое любопытство. Он вдруг заорал:
— Да какая разница, где я был?! Разве это должно сейчас волновать? Тут катастрофа, кошмар, все планы к черту, жизнь к черту! А ей главное: где был да почему поздно… — махнул рукой и ушел от глупых людей в сад, где под яблоней стояла его кровать.
Вдруг позвонили: «Могу ли поговорить с Саней Извариным? Простите, что называю вас Саней. Вы зрелый муж, но для меня Саня, как сорок лет назад, когда вы обрывали китайские яблочки в моем саду, вас гонял, напускал на вас Джека — помните Джека, бульдога? — и жаловался вашему отцу…» Старик частил что-то лопочущим, полузадушенным хрипотцой, но чрезвычайно бодрым голосом, понять, что ему нужно, было нельзя, фамилия ничего не говорила: какой-то Приходько. «Извините, у вас ко мне дело, товарищ Приходько?» — «Да, причем срочное. Нам надо увидеться». — «Срочное?» — «Да, крайне. Cito, как пишут на рецептах врачи. Имейте в виду, Саня, для вас разговор будет, безусловно, интересен… Я тут недалеко… Буквально на четверть часа…»
Александр Мартынович собирался в больницу, навестить жену. Он сказал: не позже двенадцати. Старичок возник через десять минут. И лишь только Александр Мартынович увидел голый шишковатый череп, корабельный нос, улыбающийся несколько льстиво и хитровато большой, растянутый рот, вмиг вспомнил: никакой не Приходько, а тот дядька по кличке Пузо или Рубильник, что жил в дальнем, к огородам, доме, у него было двое детей, парень Славка и девчонка Зоя. Славка ровесник. Одно лето дружили. О! Славка был знаменит вот чем: любил закручивать уши. Чаще всего закручивал свои собственные уши, теребил их, складывал конвертиком, засовывал мочку в ушное отверстие и сидел так, разговаривая или играя в карты, с закрученными ушами, успокоенный и довольный, но вдруг начинал волноваться и ему не терпелось закрутить уши или хотя бы одно ухо кому-нибудь другому, Жорику, Руське, Скорпиону или ему, Саньке Изварину, и он принимался канючить: «Дай мне, пожалуйста, твое ухо! Дай ухо! Дай, дай, дай!» А Жорику просто мог приказать: «Давай сюда ухо, сопля голландская!» Жорик покорно подставлял голову, и Славка принимался, мурлыча, закручивать тоненькое, как лист, смуглое Жориково ухо. В самом деле: Славка Приходько. Была веранда, увитая диким виноградом. Славкин отец — вот этот старик, улыбающийся большим ртом? — сделал маме какую-то гадость. Она почему-то велела с ним не здороваться, на их веранду не ходить. Но дружить со Славкой во дворе разрешала. Все утратило краски, пережглось, пересохло, исчезло. Почему старик не умер? Зачем появился?
— И у вас, Саня, есть определенные шансы — я не скажу, что большие — на получение сторожки… Ведь вы жили там лет двенадцать, не так ли? Года, примерно, с двадцать шестого… Помню вашего папу хорошо… Я удивляюсь, ни разу не поднимали вопрос и вообще сгинули куда-то, пропали… А у вас есть моральное право.
— Есть, — согласился Александр Мартынович. — Скажите, как ваш сын? Слава?
— Славик не вернулся с войны. Погиб на Северном Кавказе в сорок втором году. А мы с женой и Зоечкой жили в эвакуации в Чувашии… — быстро пролопотал старик. Так быстро, будто хочет поскорее избавиться от этих слов, которые произнес. — Ну что же, Саня? Напишите заявление, я вам попробую помочь.
Александр Мартынович молчал и думал, скрытно волнуясь. У него сердце стучало. То, что обрушилось столь внезапно и странно, было похоже на давние сны — они мучили всю первую половину жизни, — сны о несбыточном прошлом… После войны раза два попадал в Соколиный Бор случайно — прошло уже лет двадцать с тех пор — и нарочно сворачивал в лес до Четвертой линии, чтобы не видеть забора, сосен и крыш. Все это истлело. Вдруг померещилось, будто к нему, уже седому, больному, похоронившему всех, похоронившему сына, является некий загадочный, лысый, с пугающим носом старик, может быть, волшебник, а может быть, черт, и предлагает за что-то вернуть детство, вернуть те времена, когда все были живы, когда он бегал босой по каменистой дорожке, когда солнце горячей смолой горело на сосновых стволах… Но за что же? Что ему надо?
— Вы знаете, это как-то неожиданно… — бормотал Александр Мартынович. — Я должен подумать… Я еду в больницу. Моя жена больна…
Потом ехал в троллейбусе долго и делал усилия, чтобы не вспоминать. Но вспоминалось само собой. Это было гиблое место, вот в чем дело. Поэтому так страшно туда возвращаться.
Это было гиблое место, хотя на вид ничего особенного: сосны, сирень, заборы, старые дачки, обрывистый берег реки со скамейками, которые каждые два года отодвигались дальше от воды, потому что песчаный берег обваливался, и дорога, укатанная грубым, в мелкой гальке гудроном; гудрон уложили в середине тридцатых годов, и то не до конца, а лишь до поворота на Четвертую линию, или, как говорили прежде, вероятно, еще до революции, на Четвертую просеку, ибо некогда тут был истинный бор, его следовало просекать, но уже лет сорок назад с обеих сторон линии, или просеки — или Grobe Allee, как называла эту нырявшую меж холмами лесную дорогу коричневогубая морщинистая Мария Адольфовна, лицом напоминавшая свалявшийся старый чулок, но бесконечно добрый, мягкий и какой-то удивительно домашний чулок; куда она делась потом, после того лета, когда она с плачем уходила навсегда из Саниной жизни? — с обеих сторон Большой аллеи простирались участки новых громадных дач, и сосны, огороженные заборами, теперь скрипели под ветром и сочились смоляным духом в жару для кого-то персонально, вроде как музыканты, приглашенные играть на свадьбу. Ах, впрочем, все равно хорошо! Музыку можно слушать, стоя на улице. Воздух над соснами, над заборами и просекой был ошеломительно чист, и чистота была такой силы, что могла опрокинуть неосторожного человека, попавшего в этот воздух прямо из города, из набитого битком автобуса. Так бывало и в то лето с Саней: будто взрослый, он мотался по разным учреждениям, приемным, стоял в очередях и только к вечеру прикатывал в Бор и глотал, захлебывался… Он ощущал сладость воздуха и горечь предчувствий… Да, да, это было гиблое место. Вернее сказать, проклятое место. Несмотря на все его прелести. Потому что тут странным образом гибли люди: некоторые тонули в реке во время ночных купаний, других сражала внезапная болезнь, а кое-кто сводил счеты с жизнью на чердаках своих дач.
Мария Адольфовна шептала: «O, jetzt mub ich mich auf den Weg machen…»[5] — и в десятый раз что-то перекладывала, упаковывала, садилась на диван, пила валерьянку. И опять: «O, jetzt mub ich…» Ее книжки в старинных, с золотым тиснением переплетах пахли сухими духами «саше». У нее была восьмигранная деревянная рамочка, на которой Мария Адольфовна плела красивые салфетки двух цветов и научила плести такие салфетки Саню, его двоюродную сестру Женю и Женину мать, тетю Киру.