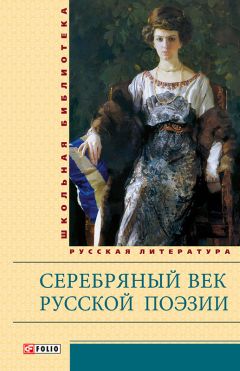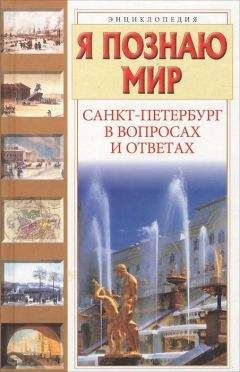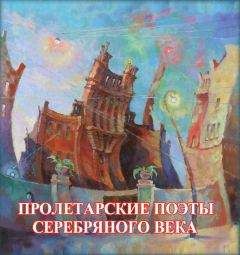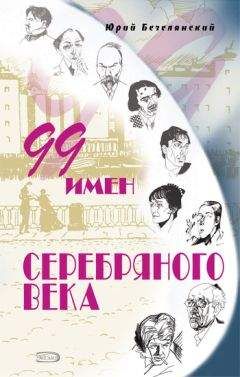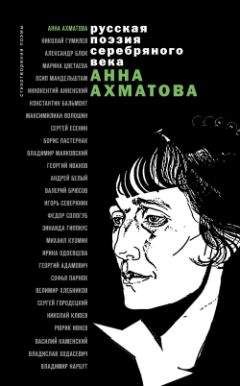Вячеслав Недошивин - Прогулки по Серебряному веку. Санкт-Петербург
Утром их разбудила Ахматова. В темном платье и полосатом переднике, она вошла с подносом, на котором были чашки с липовым чаем, сахарин и ломтики черного хлеба. «Принесла ребятишкам покушать, – улыбнулась, – потчуйтесь на здоровье!» И Анненков, и Судейкина засмеялись. Откинув коврик, Анненков встал. Судейкина присела на постели, прикрытая одеялом. Ливень кончился, сквозь оконные шторки светило солнце. Ахматова поставила поднос на одеяло и ела на край кровати. «Я придвинул стул, – пишет Анненков, – и – втроем – мы весело позавтракали…» Через полвека, в Париже, Анненков хлебосольно «отплатит» Ахматовой уже обедом, мешая его, впрочем, с горькими слезами воспоминаний…
Да, двое из этих троих уже осенью окажутся в эмиграции: сначала Анненков, потом Ольга. Этот дом на углу Фонтанки и Невы я вообще называю «домом расставаний». Единственным, вероятно, исключением была завязавшаяся здесь на всю жизнь дружба Ахматовой и Надежды Мандельштам. Последняя не без ехидства опишет позднее и секреты обольщения, по Ольге Судейкиной, и ее приемчики: «Тряпка должна быть из марли – вытереть пыль и сполоснуть… Чашки тонкие, а чай крепкий… Темные волосы должны быть гладкими, а светлые следует взбивать и завивать. И – тайна женского успеха по Кшесинской – не сводить “с них” (с мужчин. – В.Н.) глаз, глядеть “им” в рот – “они” это любят…» Надежда Яковлевна не раз наблюдала здесь эти «маневры». «Оленька… стучала каблучками, танцующей походкой бегала по комнате, накрывая стол к чаю, смахнула батистовой или марлевой тряпочкой несуществующую пыль, потом помахала тряпкой, как платочком, и сунула его за поясок микроскопического фартушка… Подав чай, Ольга исчезала, чтобы не мешать разговору, – пишет Надежда Мандельштам, – Характер своей подруги она изучила: Ахматова, когда приходили гости, всегда выставляла своих сожительниц из комнаты, чуть не хлопая перед их носом дверью…» Кстати, именно Н.Мандельштам утверждала, что Ахматова, «равнодушная к выступлениям, публике, овациям… почестям, обожала аудиторию за чайным столом… Я говорю: “Ануш, там идут к нам”, – и она спросит: “Что, уже пора хорошеть?” И тут же – по заказу – хорошеет»…
Сюда, к Ахматовой и Судейкиной, приходили в тот год Сологуб, Замятин, Петров-Водкин («их наказание», поскольку он часами не уходил, молчал и «делал улыбку», по едкому замечанию искусствоведа Голлербаха, в стиле «добро пожаловать»). Только с Есениным, думаю, Ахматова вряд ли хорошела при встрече.
Она встретила его однажды с компанией, когда гуляла с собакой у Лебяжьей канавки. «От него – рассказывала, – пахло вином. Одет был по тем временам от лично – лакированные ботинки и прекрасный костюм, видимо, заграничный… Внешний блеск, а вот лицо… болезненно, с каким-то землистым оттенком. Здороваясь, он поцеловал руку, что раньше никогда не делал…»
Они напросятся в дом – Есенин, Клюев и Приблудный, и пьяный Клюев немедленно заснет поперек ее кровати. Тогда только Есенин притихнет, станет говорить по-человечески: ругать власть, всех и вся. Пошлет приятеля за своей книгой, чтобы надписать ее, а когда книгу принесут, окажется не в состоянии даже держать перо… Пишут, что читал ей здесь стихотворение «Отговорила роща золотая…» Но на другой день, встретив ее в Летнем саду, скажет что-то нелестное про нее своим друзьям и пройдет, вызывающе приложив к цилиндру два пальца. Ну, разве не «расставание» с тем, кто в 1910-х годах почтительно ловил каждое ее слово? Именно после этой встречи она и назовет его «гостинодворским», то есть мещанским[46]. Страшное оскорбление в те годы…
Точно так же, живя в этом доме, случайно встретит (как выяснится, в последний раз) и Маяковского. Через много лет расскажет Лидии Чуковской: «Это было в 24-м году. Мы с Николаем Николаевичем (Пуниным) шли по Фонтанке. Я подумала: сейчас мы встретим Маяковского. И только что мы приблизились к Невскому, из-за угла – Маяковский! Поздоровался. “А я только что подумал: «Сейчас встречу Ахматову»”. Я не сказала, что подумала то же. Мы постояли минуту. Маяковский язвил: “Я говорю Асееву – какой же ты футурист, если Ахматовой стихи сочиняешь”?..» Этот шутливый упрек в сторону Асеева, кстати, не просто вырвавшаяся фразочка. Ведь через пару лет Маяковский будет не только презрительно звать ее за глаза «Ахматкина», но и, не брезгуя душком политического доноса, объявлять ее и Мандельштама «внутренними эмигрантами». А ведь недавно, каких-нибудь пять-десять лет назад, он не только умилялся ее руке («Пальчики-то, пальчики-то, Боже ты мой!»), но и искренне восхищался ее стихами.
Здесь Ахматова расстанется и с последним, относительно независимым, жильем – дальше, до самой дачи в Комарове («Будки», как она ее назовет), будут чужие комнаты, чужие квартиры. Здесь расстанется с жизнью «как песня», с женской свободой. Ведь именно сюда не вернется однажды, впервые оставшись ночевать у Пунина, в его семейной квартире в Фонтанном доме (Фонтанка, 34). 8 июля 1925 года Пунин запишет в дневнике: «Сегодня осталась у меня ночевать, я уложил ее в кабинете и всю ночь сквозь сон чувствовал присутствие ее в доме; утром я вошел к ней, она еще спала; я не знал, что она так красива спящая. Вместе пили чай, потом я вымыл ей волосы, и она весь день переводила мне одну французскую книгу: это такой покой — быть постоянно с нею». Покой? Увы, покоя у него не будет уже никогда, сколько бы он ни уговаривал себя «работать над своей любовью» к ней, сколько бы ни пытался оправдывать ее. «Она не виновата и больше не виновата, чем я и кто-либо, – записывал в дневнике. – Ангел она, ангел, ангел. Виновато именно то, что моя любовь для нее недостаточна. Смотри же, не сделай ей больно из-за своего эгоизма; работай над своей любовью, очищай и очищай… Не попрекай ее и в мыслях грешным телом…»
А ведь еще два года назад Пунин сделал, казалось, для себя горький вывод, написал ей в письме: «Никогда еще я в такой малой степени не занимал кого-либо собою, как тебя; да ты и не любишь, когда я говорю о себе, любишь только, когда говорю о тебе или о себе в связи с тобою… разве не правда?» В дневнике тогда же признался: «Она не любит и никогда не любила: она не может любить, не умеет», и что он ей, с его точки зрения, нужен «как еще одно зрелище, притом зрелище особого порядка». Потом скажет: «Анна, честно говоря, никогда не любила. Все какие-то штучки, грусти, тоски, обиды, зловредство, изредка демонизм. Она даже не подозревает, что такое любовь». Он, представьте, станет жалеть даже своего соперника Циммермана, ибо тот тоже упрекнул Ахматову, что она «обращается с ним, как с собакой». Не поможет Пунину и «конституция», которую они выработают с Ахматовой: по каким дням встречаться, когда принадлежать друг другу, когда – себе[47]. «Все, кто ее любил, – подчеркнет позднее Лукницкий, – любили жутко, старались спрятать ее, увезти, скрыть от других, ревновали, делали из дома тюрьму…» Теперь такую жизнь решился устроить ей и Пунин. Другое дело, что из этого ничего не получилось. Но это ведь он хватал ее на Троицком мосту окровавленными руками…