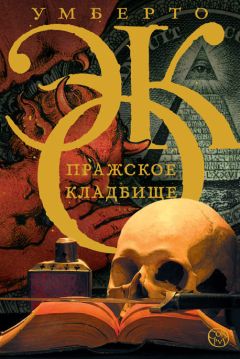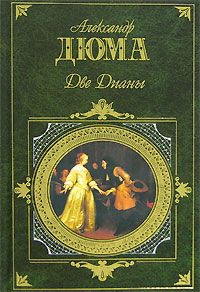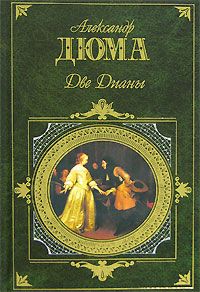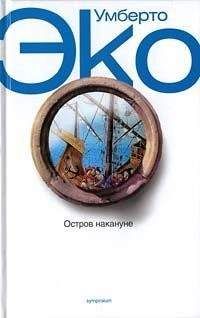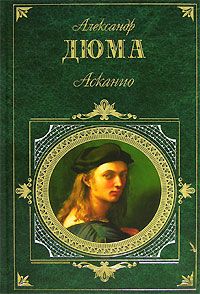Владимир Сорокин - Лёд
Я вошла. Там как бы парная. Но шаек нет никаких, а просто поверху трубы железные, а в них дырочки. И из дырочек прыщет вода чуть теплая. Я смотрю на эти трубки – чего делать-то? Постояла, потом дальше пошла. А там как бы предбанник. И снова немки военные. И столы. А на них – белье разное.
Мне немка дала чистую нательную рубаху и платок синий. И на выход кивает. Я вышла, а там тоже как бы предбанничек маленький. А в нем наша одежда. Но от нее чем-то воняет. И это, оказывается, то место, где мы раздевались. Этот барак у них как бы по кругу, как карусель на ярмарке. И та же самая немка с прутиком мне говорит:
– Одевайся.
Я ту новую исподнюю напялила, потом чулки шерстяные, платье свое зеленое. Потом фуфайку. Потом и ватник. И платка моего старого нет. Забрали. Да и исподней рубахи старой тоже нет. Я голову новым платком повязала. А те девки, уж постриженные, пошли мыться.
А немка мне говорит:
– Садись к столу.
Я села. Напротив тоже немка. Она тоже по-русски заговорила:
– Как тебя зовут?
Я говорю:
– Самсикова Варя.
– Сколько лет?
– Четырнадцать.
Она все записала. Потом говорит:
– Протяни руку.
Я не поняла сперва. Она опять:
– Давай руку!
Я протянула. Она мне на руку такую печать – раз!
А там чернильный номер: 32-126.
И говорит:
– Иди туда.
А там дверь. Я пошла, открыла. А там уж двор. И стоит солдат с автоматом. И он мне на другой барак показывает. Я пошла туда. Как подходить стала – сразу едой запахло. Господи, думаю, неужели накормят? Иду, а ноги сами побежали. А сзади еще девки вышли. И тоже побежали.
Вошли мы туда. Это не барак, а навес дощатый. А под ним большие котлы стоят, штук десять, а в них еда варится. А вокруг немцы с мисками и с черпаками. И наши тоже, уже кто вышел. Немцы всем по миске пустой дают. И мне тоже дали – и в очередь. Достояла, мне немец в миску черпаком – плюх! Суп гороховый. Густой, как каша. А ложки-то нет ни у кого. Все сосут через край.
Я тоже быстро высосала, рукой миску вытерла, облизала руку.
А немец смотрит:
– Вильст ду нох?
А я говорю:
– Яа, яа. Битте!
Он мне еще – плюх! Я вторую миску уже помедленней высасывала. Смотрела на все вокруг: наши толкаются, немцы. Совсем все по-другому, совсем другая жизнь началась.
Съела я вторую порцию – и опьянела. Привалилась к этому котлу. А он теплый, блестит. А немец смеется:
– Альзо, нох айнмаль, мэдл?
А я вспомнила, как Отто говорил, когда молоком напивался досыта. И отвечаю:
– Их бин зат, их маг каин блат.
Немец заржал, что-то спросил. Но я не поняла.
И пошла в барак.
К вечеру всех с нашего эшелона обработали и накормили. Но постригли почему-то не всех. Из нашего барака не постригли только меня и еще трех девок. Таня мне объяснила:
– Это потому, что у вас вшей нет.
Я говорю:
– Как нет? Глянь-ка!
Она мне волосы раздвинула:
– Есть! Значит, забыли. Ты волосы-то спрячь под косынку, а то опомнятся да обкорнают наголо.
Я так и сделала: повязалась потуже, волосы спрятала.
А как стемнело, вошла та самая немка с прутиком и говорит:
– Теперь всем спать. Утром вас повезут на рабочие места. Там будете жить и работать.
И двери в бараке заперли на засов.
Кто заснул сразу, а кто нет. Мы с Таней и с Наташкой с Брянска рядом пристроились да всё разговоры разводили: что да как будет. Они-то меня постарше, многое чего слыхали. И про Европу, и про немцев.
Наташка рассказывала, как у них в Брянске немцы кино крутили для своих. А ее два раза с подругой немец приглашал. И она видела в кино Гитлера и голую женщину, которая все время пела, танцевала и хохотала. А вокруг этой женщины ходили по кругу немцы в белом. И смотрели на нее и улыбались. А Гитлер, она говорила, симпатичный такой, с усиками. И культурный, сразу видно. И он очень громко говорит.
А я кино видала всего шесть раз. У нас клуб-то только в Кирове. А это двадцать пять верст. Два раза отец свозил на Мальчике. Потом Степан Сотников с ихними детьми возил. И смотрела я «Чапаева» два раза, потом «Волга-Волга», «Мы из Кронштадта», «Семеро смелых» и еще одно кино, забыла, как называется. Там про Ленина, как в него женщина одна стреляла. А он в кепке убегал. А потом упал. Но не умер.
А внизу на нарах девки все время гадали: кто победит – наши или немцы?
А Тане с Наташкой было все равно – лишь бы не бомбили.
Нас три раза бомбили. Но все бомбы упали не в деревню, а на огороды. Только стекла повыбило и коров посекло. И еще на мине одна баба из деревни подорвалась. Ее в деревню принесли на рогоже: без ноги, кишки вылезли. А она все повторяла:
– Мамечина моя родимая, мамечина моя родимая.
И померла.
А я заснула.
А когда проснулась – все уж поднялись. Побежали мы с девками сцать. Там нужник большой, чистый. Посцали, а некоторые и посрали. Потом пошли есть к котлам этим. И опять этот суп гороховый. Но уже пожиже, не как вчера. И добавки не дали. Выпила я его через край. Только миску облизала – кричат:
– Строиться!
И пошли все на майдан.
Построили нас – парней отдельно, девчат отдельно. Стоят немцы, смотрят на нас. Молчат. Один на часы поглядывает. Ну, стоим. А немцы и не говорят ничего. Час простояли, стали ноги затекать. Наташка говорит:
– Грузовиков ждут, чтоб нас везти.
Вдруг слышим – машины едут. И въезжают прямо в лагерь. Но не грузовые, а легковые. Три машины. Черные, красивые. Подъехали. Из них вышли немцы. Как и машины, во все черное одетые. А один, самый главный – высокий такой, в черном кожаном пальто. И в перчатках. И ему все немцы честь отдали.
А он тоже честь отдал, подошел к нам, руки на животе сложил и смотрит. Красивый такой, белобрысый. Посмотрел и говорит:
– Гут. Зер гут.
И что-то немцам сказал. И эта немка, что по-русски говорила, говорит:
– Снять головные уборы.
А я не поняла. А потом поняла, когда парни кепки и шапки поснимали. И девки тоже платки стали развязывать да снимать.
Я думаю: вот, сейчас и обстригут меня. И точно, немка говорит:
– Кто с волосами – выходи вперед.
Делать нечего – пошла. Вышло еще человек пятнадцать: ребята и девки. Все, кого не остригли. И главное – все белобрысые, как и я! Даже смешно стало.
А немка:
– В шеренгу становись!
Ну, встали все рядом.
А немец этот главный подошел и смотрит. И смотрит как-то… я и не знаю, как сказать. Долго и медленно. А потом стал подходить к каждому из нас. Подойдет, двумя пальцами подбородок поднимет и смотрит. Потом дальше идет. И молчит.
Подошел ко мне. Подбородок мне поднял и в глаза уставился. А у самого лицо такое… я таких и не видала. Как Христос на иконе. Худой такой, белобрысый, глаза синие-синие. Чистый очень, ни пылинки, ни грязинки. Фуражка черная, а на ней наверху – череп.