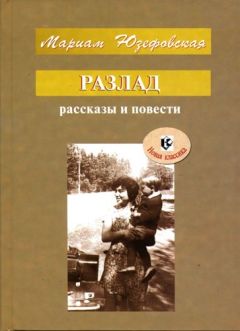Мариам Юзефовская - Господи, подари нам завтра!
Это время не для глупых слов и поступков». Вначале никто ничего не понял. Лишь только мама, сразу почуяв неладное, положила руку на мое плечо. Я часто думаю, что толкнуло его при всех затеять этот опасный разговор? Хотел предостеречь меня? Или просто потерял голову от волнения и удачи? Быть может, то была судьба? Но я воспринял это как вызов. Между нами завязался спор. Вы видели когда-нибудь, как летом горит сухой лес? —неожиданно оборвал себя Зибуц. — Ничто уже не могло нас остановить. Ни уговоры мамы, ни окрики деда. На следующий день я записался волонтером в польскую армию. Потом война, отступление, плен. — Старик махнул рукой.
— После войны наша старая служанка Франя рассказывала, что они ждали меня до последнего дня. Мама наотрез отказалась уезжать. — Зибуц на миг умолк. Потом улыбнулся своей жалкой, дрожащей улыбкой. — Не мне вам говорить. Вы сами знаете, что такое аидише момэ (еврейская мама).
– Да-да, – поспешно кивнула в ответ…
… – С кем ты здесь останешься? Соня уже уговорила твоего мальчика. Он едет с нами. И тут ничего не поделаешь. Еще год, два. И он все равно отошел бы от тебя. Ты еще этого не знаешь, но когда дети взрослеют, они становятся чужими.
Задрав вверх голову, мама попыталась поймать мой взгляд. «Знаю, мама! Уже знаю». Мне так хотелось поделиться своей болью. Но, сцепив зубы, упорно глядела в пол, словно для того, чтобы лучше запомнить её больные, отекшие ноги.
– Оглянись вокруг! Все давно уехали. Кацы, Горелики, Заксы. — Мама загибала один за другим сухонькие морщинистые пальцы. — На нашей улице мы остались последние. — Она дернула меня за руку.
— Что молчишь?
Внезапно цепко схватила за локоть и потащила по длинному извилистому коридору:
– Не упрямься. Еще есть время. Можно все оформить, и ты поедешь с нами.
– О чем ты, мама? — слабо сопротивлялась я её натиску.
Из-за поворота раздался высокий голос тети Сони:
– Женя! Где тебя носит? Пиши! Простыни махровые – пять штук, простыни льняные – двадцать. Пиши! Кому я диктую? Стенке?
Мама рывком распахнула белую высокую дверь. Тетя Соня обернулась и, смерив меня взглядом, процедила:
– Смотрите, кто пришел! Наша шикса (иноверка). Явилась не запылилась.
– Нам нужно серьезно поговорить, — храбро начала мама, и я заметила, как жалко у неё дрожат щеки.
– Поговорить? – деланно удивилась тетя Соня. Я перехватила испуганный мамин взгляд. — О чем говорить? – все больше и больше раскаляла себя тетя. – Я давно раскусила эту штучку! Она из тех, кто умеет устраиваться в жизни. Знаешь, для чего она разводит эти свои турусы на колесах?
И тетя, передразнивая меня, закатила глаза, сложила губы бантиком и перешла на фальцет:
– Что я там буду делать? Я умру от тоски!
Затем Соня повернулась ко мне, словно только сейчас заметила мое присутствие, и театрально засмеялась:
– Ну скажи, что ты любишь Родину. Что ты готова жить до конца своих дней среди этого быдла и стоять часами в очередях за буханкой хлеба. Ну скажи что-нибудь! Скажи! — Внезапно ударила кулаком по столу. — Да ты просто трусишь! Не хочешь рисковать! А зачем? Пусть две старухи поедут, устроятся, обживутся, а потом явишься на все готовенькое. А сейчас багаж, документы, билеты – все на их плечи. Только смотри, не просчитайся. — Тетя бросила на меня гневный взгляд и подбоченилась. — Кстати, хочу тебя обрадовать — твой мальчик решил ехать с нами.
Я стояла, не проронив ни слова. Внезапно Соня накинулась на маму:
– Опять глаза на мокром месте! Хочешь совсем ослепнуть? Мало ты пролила из-за неё слез во время войны? Не бойся! Через полгода эта цаца примчится как миленькая.
Я отступила в коридор и плотно закрыла за собой дверь.
– Ты не должна обижаться. Соня смертельно устала. Обещай еще раз все хорошенько обдумать. Помни, ты остаешься здесь совершенно одна. — Задыхаясь, мама, наконец, нагнала меня.
– Я привыкла одна, — отрывисто бросила я в полутьму коридора, нащупывая холодную ребристую головку английского замка.
– Зачем ты так? —упавшим голосом прошептала мама и тихо всхлипнула.
– Не нужно! Слышишь? — и прижала к себе хрупкое старушечье тело. — Оставайся здесь со мной.
– Здесь? — с ужасом вскрикнула мама. — Ты ничего не понимаешь. Ты была еще маленькая, когда началась война, — залепетала она. — Я тоже тогда никуда не хотела уезжать. Но Соня настояла и оказалась права. Твой отец, светлая ему память, с трудом посадил нас в последний эшелон. Если б не Соня…
– Что произошло между вами? Почему мы с тобой уехали от бабки Лукерьи? – внезапно вырвалось у меня.
– От бабки Лукерьи? — повторила она растерянно. – Кто тебе рассказал?
– Я помню, мама. — и в упор посмотрела на неё.
– Что ты помнишь? Что?
– Крестик на шее. Сани. Снег. Сильный мороз. Ты толкала меня: «Не спи, Маша! Не спи!» Меня тогда звали Машей. Ты все время твердила: «Тебя зовут Маша Кулешова».
Мама резко отпрянула:
– Не может быть! Прошло столько лет!
– Всего лишь полвека, — натянуто улыбнулась я. — Из-за чего вы поссорились? Из-за меня?
Мама сникла под моим взглядом:
– Какое это теперь имеет значение? Важно, что все мы выжили…
… Я напряженно смотрела на беспрестанно шевелящиеся, бесцветные губы старика. И вдруг неожиданно для себя спросила:
– Вам приходилось когда-нибудь ездить зимой в санях?
– Зимой? В санях? — Седые брови Зибуца изумленно поползли вверх. — Цо пани мувэ? Не разумем.
От удивления он перешел на польский. Потом нахмурился:
– Боюсь, вы похожи на мою Рахел. Она тоже всегда думала о своем. То, что было ядром всей моей жизни, ей казалось всего лишь никому не нужной скорлупой. Рахел считала, что я — жестокий человек. — Он испытующе посмотрел, словно призывая меня в судьи.
— Да, я не хотел иметь детей. Я просто боялся. Этот безумный мир.
Эта власть, — он на миг запнулся. — И потом, мой характер. Чем старше становился, тем всё больше и больше чувствовал, что становлюсь похож на своего отца. «Нет! — сказал я себе. — Это счастье не для тебя, Ицхак!» Рахел не могла меня понять, — внезапно с раздражением вскрикнул Зибуц. — Ей хотелось кого-то пеленать, нянчить, кормить. А тут начались отъезды. Она решила все бросить и попытаться устроить свою жизнь там. В последние месяцы мы часто ссорились. Она плакала: «Зачем ты хочешь, чтобы я вышла за тебя замуж? Разве тебе нужна семья? У тебя есть твои камни!» Произнеся последнее слово, Зибуц вдруг замер. Потом властно схватил меня за руку:
– Идемте. Здесь недалеко.
Старик шел так быстро, что я с трудом поспевала за ним. Куда делось его шарканье, его шажки – маленькие, робкие, словно нащупывающие твердую почву под ногами. Петляя дворами, вывел к заброшенному пустырю, заросшему пышными высокими кустами боярышника. Неподалеку высились многоэтажные дома. Оттуда доносился приглушенный шум машин. Где-то в стороне была дорога. Здесь царила тишина, словно мы оказались за городом.
– Уже близко, — кинул старик через плечо.
Я все больше и больше отставала от него. Ноги путались в густой колкой траве.
– Здесь!
Зибуц остановился возле невысокой гранитной глыбы, достал свою серую тряпицу. Что-то нашептывая и сокрушенно качая головой, начал тереть невидимое глазу пятнышко. Я украдкой огляделась. Через весь пустырь от глыбы по направлению к шоссе, на равном расстоянии друг от друга, виднелись приземистые гранитные столбики.
– Что это?
Зибуц словно очнулся.
– Тут их выстроили в колонну и повели этой дорогой в газовни, — он махнул в сторону столбиков.
– В газовые камеры? — переспросила я, ощущая знобящую пустоту в груди.
Лицо старика оставалось спокойным и бесстрастным.
– Потом – печь, — будничным тоном продолжал Зибуц, — а пепел – в яму. Сейчас мы пройдем с вами по этому пути, и вы увидите это место.
– Давайте в следующий раз, — малодушно взмолилась я. — Вы, наверное, устали.
– Это была моя работа. Я водил здесь экскурсии. — Он бросил на меня проницательный взгляд. – Там мой дом. Мы зайдем. Поговорим о деле. Времени осталось очень мало. Вам скоро уезжать. Следующего раза, сами понимаете, может не быть. — И пошел, не оглядываясь, словно осознавая свою власть надо мной.
Мы завернули за угол и оказались перед крохотным домиком, вросшим чуть ли не до половины в землю. Он стоял, зажатый между высотными домами. Казалось, присел на корточки. В палисаднике высилась белая мраморная стена, испещренная сверху донизу крупными квадратными буквами. Дворик был обнесен невысоким покосившимся штакетником.
– Муй маенток (имение), — невесело усмехнулся Зибуц.
– Что здесь написано? — Я угрюмо кивнула на мраморную стену.
Он повернулся к ней лицом, достал из кармана очки. Одна дужка была привязана грязной тесемкой. Повертел их в руках и, не надевая, начал нараспев: