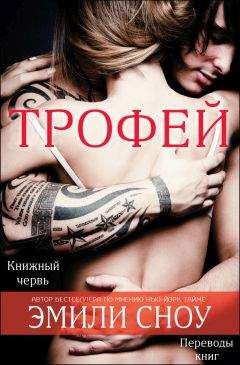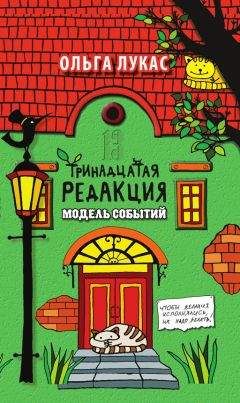Лукас Берфус - Сто дней
Чем я это заслужил, спросил Поль, разве что-нибудь натворил, чтобы такое наказание постигло именно меня, и секунду-другую я не понимал, что он имел в виду, пока не увидел на его расширившихся зрачках слезы. Она меня наградила, Давид, эта потаскушка наградила меня заразной болезнью, и в голосе у него было больше удивления, чем гнева. Закончив свою историю, он долго сидел неподвижно, словно ожидая последнего, смертельного удара или, наоборот, отпущения грехов — что-то вроде оправдательного приговора с моей стороны, утешительных слов типа «то был всего лишь сон». Однако он не услышал от меня ни того, ни другого. Я молчал, заставив его потомиться, пока он не собрался с силами и не рассказал, как ему удалось забыть эту историю и не думать о ней до тех пор, пока он не заболел. Мне вспомнилась та неделя, когда он впервые не появился в посольстве. Говорили, что у него легкая простуда, и так оно и было. Казалось, ничего серьезного, однако Инес все-таки послала его к врачу из-за высокой температуры. Но Поль к врачу не пошел — потому как боялся и внушил себе, что болезнь он подцепил по своей вине. Лечению она не поддается, рано или поздно я умру, став жертвой двух-трех часов отчаяния и беспечности. Мне пятьдесят три, мужчины же в этой стране живут в среднем лет сорок пять, сказал он и улыбнулся с видом человека, который имел безнадежную карту и все же сорвал банк. Но рассказать Инес о случившемся я не могу, продолжил он, все еще улыбаясь, и мне стало ясно, почему исповедником он выбрал именно меня. В последние три месяца Инес, конечно, искала интимной близости, но всякий раз я уклонялся, хотя делать это было нелегко. Я все втоптал в грязь. Она была мне верной спутницей, замечательной подругой, а я испортил наши теплые отношения. Боюсь, тормоза мне когда-нибудь откажут, и я заражу Инес. Не могу же я вечно поворачиваться к ней спиной. Давид, пожалуйста. Голос его стал умоляющим, и он был более чем смешон — человек, который, немного выпив и слушая песни аборигенов, теряет самообладание. Трус, готовый скорее заразить свою жену, чем объяснить ей, что он не был тем подвижником и самоотверженным специалистом по оказанию помощи слаборазвитым странам, которым она его всегда считала. Что интересовали его не только работа и забота о преемственности поколений в этой стране, но — время от времени, от случая к случаю — и упругие женские задницы.
Отчаянное положение Поля не оправдывало его поведения. Почему он обратился ко мне? У него не было никого, кто был бы ему и Инес ближе, чем я, и это испугало меня. Он, несомненно, считал меня своим лучшим другом, и мне показалось, что это обстоятельство ужаснее, чем подхваченная им зараза. А к кому в подобной ситуации с такой просьбой обратился бы я? Долго думать не пришлось. К Маленькому Полю — человеку, мне совершенно чужому. И все же более близкому, чем все остальные. Непоседливый Мисланд не стал бы слушать меня дольше десяти минут. Я был лучшим другом Поля, а Поль — моим. Он не был хорошим другом. Нет, не был, но другого просто не существовало. А как можно отказать своему лучшему другу в просьбе, от выполнения которой зависит здоровье его жены? Может быть, я бы и пошел ему навстречу, но не успел. Через три дня, в четверг, вечернюю тишину над Кигали разорвал взрыв. Кто-то сбил самолет президента. Той же ночью жизнь в Кигали превратилась в кромешный ад, и в таком состоянии городу и всей стране пришлось пребывать сто дней — и даже чуть дольше.
Меня всегда удивляли плюсы и минусы моей телесности. Например, мне надо сесть в машину, чтобы из одного места попасть в другое, и для этого нужно время. А теперь вот я могу просто заползти за аварийный генератор, чтобы спрятаться от Поля. Хоть я здесь, но меня не видно, и если я не буду шевелиться и шумно дышать, то этого будет достаточно, чтобы Поль меня не нашел.
Я ощущаю запах дизеля, вокруг такая темнота, что цифры прямо-таки горят на циферблате моих часов. В нише сыро, еще стоит запах падали, хотя собак я убрал. Боюсь, что компанию мне могут составить гекконы и мокрицы, но вообще-то убежище удобное и чуть ли не уютное. Можно прислониться спиной к стене и смотреть вверх, на крону эвкалипта. Коротая время, пытаюсь определить, какие птицы в ней обитают. Маленькая, невзрачная, бегающая вверх-вниз по большой, раскидистой ветке — это, должно быть, птица-мышь. Появляется доминиканская вдовушка, но сарыч не терпит гостей. Я маню его тихим посвистом, пока в голову не приходит простая мысль: о том, где я прячусь, ему лучше не знать. Однако, услышав зов, он наклоняет голову и косится левым глазом в мою сторону. Потом поворачивается, слегка подскакивает, покидает насиженное место и садится на одну из нижних, более тонких ветвей, исчезая из узкого проема меж каменной оградой и железной панелью, который мною просматривается. Я втискиваюсь в нишу поглубже, выжидаю несколько минут — сарыча не видно и не слышно, — и тогда я разрешаю себе расслабиться, откидываю голову и вытягиваю из ниши правую ногу: если кто-нибудь заглянет за генератор, то непременно ее увидит.
Часа через три задница начинает побаливать; шерстяное одеяло я оставил в доме совсем некстати. Хорошо, что на мне вельветовые брюки. По моим расчетам в нише придется просидеть не менее суток.
Полдень. Многие толкутся возле отеля «Меридиан», вторая группа собирается у Французской школы, всего человек семьдесят — женщины, мужчины, дети. Я знаком с планом эвакуации — сам его печатал и рассылал соотечественникам. Я им не завидую. К Полю, Марианне и всем, кто, подобно крысам, покидает тонущий корабль, у меня нет никаких чувств, кроме презрения.
Раздаются хлопки выстрелов, звучат они где-то неподалеку, скорее всего близ кафедрального собора, — короткие очереди из французских автоматов. Все главные артерии города перекрыты заграждениями. Об этом позаботились ополченцы. Я видел трупы, когда ехал сюда из посольства, — видел их наверху, за обочиной авеню Армии. В первый момент подумал, что в кювет вытряхнули целый мешок ветхой одежды. Свет уже утратил яркость, вещи лежали большой грудой, и только потом, сбавляя скорость, я разглядел голые ноги и что-то гладкое, поблескивающее, как кость. Ополченцы закричали, ощущение было не из приятных, но уже через секунду-другую они раздвинули утыканные гвоздями доски и взмахами рук позволили ехать дальше.
Теперь они наверняка заметили мое отсутствие. Марианна просматривает список, выкликает каждое имя и, только называя мое, не получает ответа. На розыски она пошлет Поля — в этом я уверен. Никто из посольских не известен ополченцам так, как маленький Поль. Они знают, что он работает на швейцарцев, а швейцарцев трогать запрещено.
Ворота открываются, я слышу шаги по гравию, слышу, как кто-то зовет меня.
Но я не отвечаю.
Вбирая голову в плечи, сгибая спину, забираюсь в нишу еще глубже.
Он не обнаружит меня, даже если вздумает заглянуть за аварийный генератор.
Давид, ты здесь?
Я — здесь. И здесь останусь. Я — не трус. Не сбегу.
Поль подходит ближе. Наклонившись, я сдвигаюсь дальше в тень и сам превращаюсь в эту тень. Сквозь узкую щель между землей и днищем генератора узнаю ноги Поля — они в тяжелых походных ботинках.
Слышу крик Шакатака, совсем близко.
Уходи, дружище, уходи обратно на эвкалипт.
Но сарыч садится на генератор. С глухим скрежетом ступает когтями по жести. Издает троекратный крик, и я вижу белоснежный низ его крыльев. Он явно проголодался и ищет своего хозяина, но почему-то не поворачивается к стене дома, перья хвоста свисают в щель. Если протянуть руку, то до них можно дотронуться.
Поль подходит еще ближе. Сейчас он стоит прямо перед плетеным шнуром, которым запускают генератор. Встает на цыпочки.
Но что-то мешает ему заглянуть в нишу. Что-то. Птица ему мешает.
Поль чертыхается, хлопает в ладоши, но птица с места не двигается. Она меня охраняет.
И Поль уходит. Я выжидаю еще с полчаса. Затем выбираюсь из ниши. Внезапно наступает тишина. Кажется, что кругом — мир и покой. По саду проносится порыв ветра, и я не знаю, что мне теперь делать.
В особняке Амсар темно и прохладно, но я не разбираю баррикад перед окнами. Сквозь щели проникает солнечный свет, поблескивает пыль… Я знаю, они придут сюда снова, — и тогда я с ними уйду. Но теперь я также знаю, что мог бы и остаться — если бы захотел. Игра кончена.
Вот я — можете прийти за мной.
Но никто не приходит.
Три часа пополудни. Самолет скоро взлетит.
Я сажусь в машину. Еду в посольство. Ворота забаррикадированы. В витрине на ограде — объявление. Швейцарское представительство временно закрыто. По срочным вопросам просьба обращаться в посольство в Найроби.
Найроби… А где это — Найроби?
Меня заметили трое рослых парней с мачете. Направляются ко мне. Быстро в машину. И в аэропорт. Может, еще успею. Парни преграждают мне путь. Надо их просто объехать. Почему я этого не делаю? Почему останавливаю машину? Почему вступаю с ними в разговор?