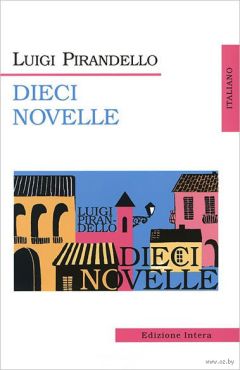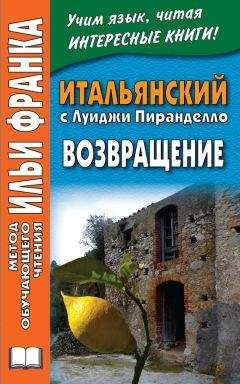Луиджи Пиранделло - Записки кинооператора Серафино Губбьо
С такими чувствами я в одиночестве отправился к Варе Несторофф. Но меня подталкивало любопытство — что она скажет мне? — а также желание рассмотреть ее вблизи, в доме, хотя я и не ожидал никакой откровенности. Я бывал во многих домах с тех пор, как лишился своего, и почти всегда, дожидаясь выхода хозяина или хозяйки, испытывал странное чувство отвращения и одновременно мучительной неловкости при виде предметов мебели, роскошных или не очень, расставленных со вкусом, словно выставленных напоказ. Эту тягостную неловкость, это отвращение я ощущаю сильнее других, возможно, потому, что в глубине души у меня так и не зажила рана, не утихла боль от утраченного домика — старинного дома, где все было родным, и неказистая мебель, с которой заботливо стирали пыль, хранила тепло домашнего очага и, казалось, была горда носить на себе следы времени, ибо в них, в этих следах, хоть и попортивших ее, заключались воспоминания жизни, прожитой вместе с ней, и в событиях которой она принимала непосредственное участие. Но, говоря по правде, я не могу понять, как может не внушать чувство отвращения и тоскливой досады мебель, с которой не возникает доверительной близости, — вот она стоит и всей своей хрупкостью, всем своим элегантным изяществом говорит, что наши тоска, боль, радость не смеют тут распоясываться, но обязаны держаться в рамках приличий. Так происходит в домах, выстроенных для других, для видимости, роли, которую мы хотим сыграть в обществе; в домах-иллюзиях, где вещи и мебель могут нас даже пристыдить, если случайно мы предстанем перед ними в ненадлежащем виде, не согласующемся с выбранной нами ролью, либо выйдем из роли, которую обязаны исполнять.
Я знал, что мадам Несторофф живет на улице Меченате, в небольшом богатом квартале, где сдаются меблированные комнаты. Меня встретила горничная (без сомнения, ей заранее сообщили о моем визите), она была слегка смущена, поскольку, в соответствии с указаниями хозяйки, ожидала увидеть меня с барышней. А так она не знала, что и думать. Посему меня сначала оставили дожидаться у порога.
— Вы один? А что же ваша подружка? — спросила Несторофф потом, уже в гостиной. Но вопрос угас на середине, где-то между «один» и «подружка», он иссяк, повинуясь непредвиденной смене ее настроения. Слово «подружка», кажется, так и не прозвучало.
Эта непредвиденная смена настроения была связана с моей бледностью, замешательством и враждебностью во взгляде.
Увидев меня, она сразу поняла причину моей бледности и замешательства и сама побледнела; на глаза у нее навернулись слезы, голос дрожал, и тело дрожало, и очертания его расплывались у меня на глазах, она походила на призрак.
Вознесение ее тела к чудесной, неземной жизни — тела, озаренного таким светом, каким она даже во сне не мечтала увидеть себя озаренной, окутанной, согретой, в нежных лучах, в триумфальном единении с природой, чье празднество цветов ее глаза отродясь не видали, — это вознесение ее тела было шесть раз чудесным образом повторено (на это способны только искусство и любовь) Джорджо Мирелли на шести полотнах, вывешенных в этой гостиной.
Запечатленная навечно в божественном сиянии, которым он наделил ее, она купалась в теплом свете, в дивном смешении красок. Но лишь на картинах. А женщина, стоявшая передо мной, что такое она была? В какой бесцветный омут, в какую скверну реальности она опустилась? И она еще осмеливалась красить себе волосы в этот странный медный цвет, волосы, которые на шести полотнах своим естественным цветом придавали столько выразительной чистоты ее внимательно-настороженному лицу, озаренному едва заметной улыбкой, и взгляду, устремленному к далекой, грустной мечте?
Она сникла, сжалась, словно стыдясь самой себя под моим взором, явно выражавшим жалкое презрение. По тому, как она на меня посмотрела и с какой болезненной судорогой сжала губы и нахмурила брови, я понял: она чувствовала, что не только заслуживает моего презрения, но и разделяет его и благодарна за него; она смаковала наказание за свое преступление и свое падение. Она подурнела, перекрасила волосы, обрекла себя на жизнь убогую и ничтожную, сожительствовала с грубым, буйным мужланом — и все это, чтоб себя наказать. Да, тут все ясно. И пусть отныне никто к ней не приближается — так решила она; пусть никто даже не пытается вытащить ее со дна, где она жила в ненависти и презрении к самой себе, на которых покоилась ее гордость, ибо только в твердом и горделивом намерении себя ненавидеть она вновь обретала ту солнечную мечту, которая на краткий миг ворвалась в ее жизнь, и тогда она могла дышать, мечту, воплотившуюся в вечном сияющем чуде тех шести холстов.
Она сама (Альдо Нути и все прочие тут ни при чем), жестоко возненавидев себя — так, как только может возненавидеть себя человек, — отказалась от этой мечты, бросилась из нее прочь. Почему? Ах!.. Причины, видимо, надо искать не здесь, а где-то вдалеке отсюда. Кому известны пути души? Страдания, обманы и иллюзии, внезапные гибельные решения… Дело было, вероятно, в том зле, что еще девочкой терпела она от мужчин, в пороках ее бесприютной молодости и разврате, в который она окунулась с головой и который, как она полагает, ранил ей сердце до такой степени, что она перестала чувствовать себя достойной светлого юноши с его любовью, которая могла это сердце возродить и наполнить радостью.
Рядом с этой падшей женщиной, бесконечно несчастной и в несчастье своем отвергнутой всеми и снискавшей всеобщее презрение, но главное — ставшей врагом самой себе, какое уныние, какая тоска вдруг охватили меня: до чего мелкими и никчемными были случаи, в которых я оказался замешан, люди, с которыми я имел дело, — жалкими, пустыми, а ведь я придавал большое значение тем людям, их действиям, чувствам! Нути показался мне болваном, глупым, нелепым, гротескным в своей легкомысленной фатоватости модного франтика, потрепанного и помятого в своей безупречной накрахмаленности, замаранной кровью.
Какими глупыми, несуразными и гротескными представились оба Кавалены, муж и жена. Глуп был Полак с его видом непобедимого полководца. И, главное, глупа была роль, которую я себе навязал: роль утешителя, с одной стороны, охранителя — с другой, и (я догадывался об этом в глубине души) спасителя — а то как же! — несчастной малышки, на которую беспорядочная жизнь в семье нацепила роль, схожую с моей, роль спасительницы молодого человека, которому на спасение было начихать.
Из-за этого отвращения к ничтожности собственной жизни я вдруг почувствовал себя отчужденным от всех, от всего, в том числе от самого себя; я был обескровлен, опустошен, лишен интереса ко всему и всем и преобразился в то, что я есть: бесстрастный кинооператор, вращающий ручку съемочного аппарата. Мной владела лишь мысль, что весь этот шумный, головокружительный механизм жизни не может произвести ничего другого, кроме глупости. Тягостной, вязкой и гротескной глупости! Что за люди, события, страсти, что за жизнь в такое время, как это! Вокруг сплошное безумие, преступления или глупость. Жизнь, достойная кинематографа! Взять хоть эту женщину, подле которой я находился, с волосами цвета меди. Там, на шести полотнах, — солнечная мечта юноши, который не смог жить в такое время, как нынешнее. А здесь — женщина, отказавшаяся от этого сна, от этой мечты и угодившая в кинематограф. Ну же, машинка, за работу! Будет тут драма или нет? Вот героиня.
— Внимание, мотор! Снимаем!
III
Женщина, мгновенно прочитавшая на моем лице презрение, точно так же сразу поняла, что на душе у меня было скверно и мной владело отвращение ко всем и ко всему.
Презрение пришлось ей по душе, возможно, потому, что она собиралась воспользоваться им ради своих целей, и она уцепилась за него, приняла его с поистине трогательным умилением. Упадок духа и отвращение тоже оказались кстати: быть может, она ощущала их даже с большей силой, чем я. Ей не понравилась моя внезапная холодность, в которую я облачился, словно в мундир обычной профессиональной бесстрастности. Похоже, это задело ее. Холодно посмотрев на меня, она сказала:
— Надеялась увидеть вас вдвоем с синьориной Луизеттой.
— Я показал ей вашу записку, — ответил я, — когда она уже собиралась на «Космограф». Я просил ее поехать вместе со мной.
— Не пожелала?
— Не сочла нужным. Возможно, в качестве хозяйки дома, где я теперь живу…
— А-а… — сказала она, тряхнув головой. Потом заметила: — Кстати, я ее как раз потому и приглашала, что она сдает комнаты.
— Я ей намекнул, — сказал я.
— И она сочла, что ехать ни к чему?
Я развел руками.
Она некоторое время молчала, размышляя; потом со вздохом сказала:
— Я ошиблась. В тот день — помните? — когда мы вместе ездили в Боско-Сакро, она показалась мне миленькой, ей было приятно находиться рядом со мной. Понимаю, ведь в то время она еще не сдавала комнаты. Но позвольте, разве вы сами у нее не снимаете?!