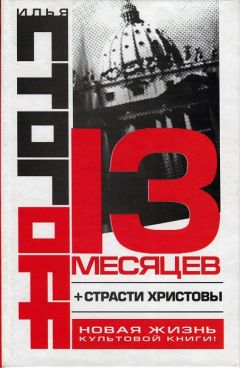Лин Ульман - Когда ты рядом. Дар
— Слышишь, какая тишина, — говорит она.
— Угу, — в дреме отвечаю я.
— Сразу и не подумаешь, что в этом доме живет семья из четырех человек, — говорит она, — двое из которых дети.
Я зеваю.
Легкий ветерок с улицы колышет шаль.
— Смотри, вон господин Поппель, — говорит Стелла, приподнимаясь.
— Ага, — отвечаю я, — она самая.
А потом начинается дождь.
— В конце концов мы засыпаем, — рассказывает Мартин. — Мы спим, а дождь идет. Так приятно засыпать под звуки дождя. Дети привыкли к тому, что днем, когда мы не на работе, мы спим, поэтому они нас не беспокоят. Но Би все же заходит к нам в спальню.
— Мама, — говорит она.
— Дай мне поспать, — отвечает Стелла.
— Но мне нужно тебе что-то сказать, — говорит Би.
— Давай попозже, дружок, — отвечает Стелла.
Потом Стелла берет Би за руку и тянет к себе.
— Полежи-ка чуть-чуть со мной, — говорит она. И мы засыпаем все трое.
Где-то через полчаса мы просыпаемся. Дождь по-прежнему стучит о подоконник. Би ушла к Аманде. Мы одни в комнате. Мы разговариваем. Стелла напомнила мне про тот день, когда я привез ей диван и чуть не выпрыгнул в окно с девятого этажа. А потом она начинает плакать.
Хочу начать все заново, говорит она. Хочу опять увидеть тебя за окном. Хочу, чтобы мы опять поехали праздновать семидесятипятилетие твоей бабушки, хочу, чтобы у нас опять родилась Би. Больше всего хочу, чтобы у нас был… Я не хочу, чтобы было так тихо.
Я глажу ее по голове. Мне непонятно, о чем она говорит, поэтому я спрашиваю: «Хочешь, я спою тебе?»
— И я стал для нее петь, — рассказывает Мартин, — песни, которые ей нравятся. Которые я ей пел, когда она болела. Песни, от которых она радуется.
— Не знала, что ты умеешь петь, — говорю я.
— Когда я был маленьким, Харриет мне пела. Стелле она не нравится. Но как-то я рассказал ей, что дед бросил Харриет, когда она была беременна, и Стелла вдруг смягчилась. Она слышала эту историю уже тысячу раз, но тогда она словно иначе ее услышала. «Дед влюбился в актрису, — рассказывал я, — хотя лично с ней не встречался. И не только в актрису, он мечтал стать звездой и влюбился в свои собственные мечты. Он был не создан для земледелия. И плевал он на бабушку и ребенка в ее утробе».
Внезапно Стелла поднялась с постели и сказала: «Вот уже и солнце светит. Поехали купим нам всем чего-нибудь вкусненького».
Я согласился, и мы стали собираться. Детям сказали, что поедем за продуктами и скоро вернемся. Мы проезжали мимо дома на Фрогнере, где мы первое время жили, и я сказал: «Ты, кажется, хотела начать все заново?»
«Да, хотела», — помолчав, ответила Стелла.
«У нас есть такая возможность», — сказал я.
«Давай без глупостей, — сказала Стелла. — Я есть хочу. И дети ждут».
Но я ее не послушал. Я остановил машину и заставил Стеллу выйти и подойти к подъезду. Я спросил ее, помнит ли она, какой вид открывается с крыши. Она кивнула. Раньше мы часто забирались туда через чердачное окошко.
«Давай опять залезем туда», — сказал я.
Она кивнула.
Вскоре из подъезда кто-то вышел, и нам удалось проскользнуть внутрь. На лифте мы не поехали, поднялись пешком.
Мартин что-то вертит в руках. Оказывается, это маленькое серебряное сердечко.
— Не могу объяснить по-другому, — говорит Мартин, — знаю только, что там, наверху, с нами что-то происходит. Мы пробуждаемся. Мы вновь становимся собой. Может, это из-за прекрасного вида, может, из-за головокружения, может, из-за осознания, что мы действительно можем начать все заново. Мы движемся из стороны в сторону, туда и обратно, прямо по самому краю. Дразним друг дружку, как тогда в магазине, когда у Стеллы начали отходить воды и все стало другим. Это игра. В этом нет ничего серьезного. Это игра. А потом мы поворачиваемся друг к другу, я протягиваю руки, и она идет ко мне малюсенькими шажками, будто по канату. Я однажды видел женщину, которая танцевала на канате, встав на цыпочки. В одной руке у нее был розовый летний зонтик, а другой она придерживала краешек платья. Она была похожа на куклу. И вот мы стоим обнявшись, а Стелла шепчет мне, что теперь все будет хорошо. «Я не дерево, — говорит она, — и мы действительно можем начать все заново». А потом мы оба смотрим на небо. Это все равно что лежать летним вечером на траве и смотреть, как над тобой бегут облака. Стелла смеется, отпускает меня, показывает на темное облако — нос, лоб, два или три глаза, огромный рот — и говорит: смотри, Мартин, это же господин Поппель!
ВидеоНа лестнице слышны шаги. Кто это шагает по моей лестнице? Аманда? Нет, Аманда спит. Би? Нет, Би спит. Водопроводчик? Нет. Водопроводчик тоже спит. Может быть, Стелла?
— Убери камеру, Мартин.
Это Стелла. Моя жена. У нее своя красота. Она тут рассердилась на меня и убежала наверх. Сейчас она вернулась. Приятно снова видеть тебя, Стелла. Мы со страховым агентом Гуннаром Р. Овесеном приветствуем тебя.
— Убери камеру, Мартин!
— Мы же еще не закончили.
— Разве?
— Нет, Стелла, не закончили.
— Мартин, убери камеру и иди спать. Скоро утро.
— Подержи-ка камеру.
— Ну давай. И зачем?
— Что ты сейчас видишь, Стелла?
— Вижу твое лицо.
— И что скажешь?
— Скажу: это Мартин.
Это Мартин, скажу я. Мой муж. У него голубые глаза, но иногда, когда он думает, что его никто не видит, они становятся почти зелеными. На подбородке у него небольшая царапина, которая никогда не заживает.
Сейчас он сидит на диване цвета авокадо и смотрит в потолок. Интересно, о чем он думает?
Наверняка он о чем-то думает.
Может, он думает обо мне.
Может, он думает, что все превратилось в прах. Что внутри мы выгорели.
— Убери камеру, Стелла, и пойдем спать.
— Пожелай страховому агенту Гуннару Р. Овесену спокойной ночи!
— Спокойной ночи, Гуннар Р. Овесен.
— Спокойной ночи, Гуннар Р. Овесен.
— Спите крепко. Приятных вам снов.
V. Падение
Когда опора выскользнула у меня из-под ног, я обхватила живот своими длинными руками и сказала: «Вот мы с тобой и полетели». Ты такой маленький, не больше ногтя. Ты — сгусток плоти, покрытый слизистой оболочкой, небольшой вздувшийся холмик, пузырчатое образование. Для тебя нет пределов. Ты можешь стать кем угодно. Даже деревом, если захочешь. Но этого я тебе не советую. Я была знакома с некоторыми деревьями, они не очень-то разговорчивые. Я даже нервничать начинаю, когда оказываюсь рядом с ними. От меня много шума и гама, я повсюду оставляю следы. Это так раздражает. Когда-то мне самой хотелось стать деревом. Чтобы мое тело не оставляло следов. Но уж как вышло, так вышло. У меня текла кровь. Я смеялась. Когда я была беременна Амандой, я все думала, какое у нее будет лицо. Это была самая большая тайна. Я не только рожу ребенка — у него еще и лицо будет. И, когда я была беременна Би, я тоже все время думала, какое же у нее будет лицо. А вот теперь твоя очередь.
Пришла твоя очередь.
Теперь ты — тайна.
И когда-нибудь — а ждать осталось недолго — у тебя будет имя.
Дар
Посвящается Янне Ульман (1910–1996)
I. Окно
Когда после всевозможных «если» и «но» молодой врач сообщил новый диагноз и как-то нерешительно изложил, какие варианты лечения имели бы смысл, — не скрывая, что в конце концов эта скверная болезнь отнимет жизнь у моего друга Юхана Слеттена, — Юхан закрыл глаза и представил волосы Май.
Врач, светловолосый молодой человек, ничего поделать не мог, его большие небесно-голубые глаза подошли бы скорее женщине. Он не произнес слово «смерть». Он употреблял выражение «тревожные симптомы».
— Юхан! — сказал врач, пытаясь заглянуть пациенту в глаза. — Будьте любезны, выслушайте меня.
Юхан не любил, когда к нему обращались просто по имени. К тому же у врача был скрипучий голос. Такое впечатление, что голос у него до сих пор ломается, а может быть, в детстве родители кастрировали его, надеясь, что если он будет евнухом, ему откроется великое будущее, подумал Юхан. Ему хотелось указать врачу на неуместное обращение по имени, особенно принимая во внимание разницу в возрасте. Тот был моложе, чем сын Юхана, с которым он не разговаривал уже восемь лет. И дело здесь было не только в воспитанности, не только в том, что младшему по возрасту не пристало обращаться к старшему просто по имени, нет, дело было в том, что Юхан всегда стремился сохранять определенную дистанцию. Любые формы фамильярности — например, свойственную многим людям дурную привычку слегка приобнять человека (скорее, это даже не объятие, а легкое соприкосновение щек) — он воспринимал как некое неудобство, да и просто отсутствие уважения. Он предпочитал, чтобы собеседник, если этим собеседником не была его собственная жена, называл его Слеттен. Не Юхан. А именно Слеттен. Это ему и хотелось сказать врачу, но не рискнул, поскольку теперь портить отношения было бы неразумно. Он не хотел оскорблять врача. Разговор может принять иной оборот. Врач, чего доброго, начнет уточнять те подробности относительно состояния Юхана, о которых он умолчал, — просто потому, что почувствует себя оскорбленным, кому понравится, чтобы его обучали хорошим манерам.