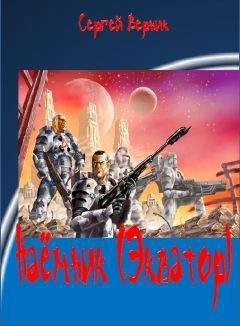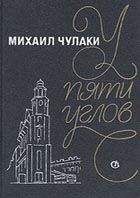Клер Эчерли - Элиза, или Настоящая жизнь
Звонок. Я убрала листок. «Волнуются под ветром». Из пяти букв. «Хлеба», конечно. Можно не записывать, я не забуду. Надо приступать к работе. Но картина волнующихся хлебов стоит перед глазами: золотые переливы, свежесть, простор. Мечты, подрывающие энергию.
Мюстафа сделал мне знак, за его спиной я увидела Арезки. Я осталась в машине.
— Не двигайся, — крикнул Арезки мне в ухо. — Не оборачивайся ко мне, Бернье идет следом.
Тот подошел, увидел, что я пишу, взглянул на Мюстафу, который с помощью Арезки расправлял складки обивки над дверцей, не остановился.
— Помнишь вчерашнее кафе? Найдешь его сама? Я буду там в восемь. Пойдем ко мне, никого не будет. Поняла?
Он высматривал меня в окно и вышел встретить. Кафе было в угловом доме по Рю–де–Криме.
— Да, мы идем ко мне, Рю–де–ла-Гут-д’Ор.
Гут-д’Ор. Золотая капля. Название сверкало. Но в темноте я не рассмотрела ничего, что отличало бы эту улицу от остальных.
— Мы сошли с ума. Я сошел с ума, — несколько раз сказал он.
Я шла за ним по коридору. Дважды он обернулся, чтоб предупредить меня о расшатавшейся или треснувшей плитке. У первых ступеней он взял меня за руку. Я покорно следовала за ним. Мне хотелось, чтоб лестнице не было конца, чтоб подъем длился вечно. Я боялась комнаты, минуты, когда захлопнется дверь, и мы окажемся на свету. Разве этот спокойный безмолвный подъем не самое прекрасное в любви? Арезки нетерпеливо тянул меня, ускоряя шаг, поднося к губам мои пальцы и покусывая их.
Он открыл дверь, и я вошла. Прошло несколько секунд, прежде чем он зажег свет, и я неподвижно стояла в темноте. Вспыхнула лампа. В комнате было две кровати, одна довольно широкая, другая раскладушка, в самом углу. Сколько человек тут спало? Большая кровать была покрыта куском яркой материи в круглых, редко разбросанных фиолетовых букетах, от нее исходил, наполняя комнату, запах свежего кретона. Материя хранила еще магазинную складку и жесткость нестиранной ткани. Без сомнения, только что куплена. Куплена для меня. На столе, в правом углу, несколько коробок, стаканы. Я выглянула в окно.
Арезки подошел ко мне и взял за руки. Брови его сходились густой чертой над переносицей. Невеселый взгляд с мерцавшим в глубине зрачков отражением лампочки теперь не выражал желания. Казалось, мое присутствие вдруг стало ему в тягость. Он показал на окно без занавесей, без ставен.
— Погоди, — сказал он, — я потушу свет.
Огни домов на другой стороне улицы достаточно освещали комнату. В темноте я почувствовала себя не так неловко. Я различала более смуглую и блестящую кожу вокруг рта Арезки. Мне хотелось что–нибудь сказать, но я куда–то неслась, влекомая бурным водоворотом.
Арезки улыбнулся. Я чуть успокоилась. Он помог мне снять пальто, медленно сложил его, аккуратно повесил на единственный стул. Нам было некуда сесть, кроме кровати, кровати и огромных цветов. Он притянул меня к себе.
Цветы расплывались, стены падали, огни меркли. Он быстро говорил, произнося слова на своем резком языке. Сеть его нежности оплела меня. Мне хотелось, чтоб он опять кусал мои пальцы. Я одновременно думала о Люсьене и Анне и о том, что случилось со мной, и это было как вихрь внутри замкнутого круга. Вся моя жизнь — годы, месяцы, дни, те, что еще придут, и те, что уже прошли, — сжалась, сконцентрировалась в этом мгновении, оно стало в центр — светящаяся, сверкающая, слепящая, искрящаяся точка. Я отдалась объятиям Арезки, прижав лицо к шершавой ткани его пиджака. Режущие слух звуки наполнили улицу. «Пожарные», — подумала я. Арезки не двигался. Машины, должно быть, мчались одна за другой, вой нарастал, тягостно длился и смолк под окном. Арезки отпустил меня. Я поняла. Полиция. Я начала дрожать. Я не боялась, но не могла унять дрожи. Я все дрожала, дрожала: сирены, тормоз, сухой щелчок дверец и холод — теперь я его ощутила — холод комнаты. Свет в доме напротив погас. Я не знала, что делать, лишившись внезапно его объятий. Он сунул в рот сигарету и протянул мне пальто.
— Держи, — сказал он, не глядя на меня, — одевайся и иди домой, как только путь окажется свободен.
Я отбросила пальто на другой конец комнаты. Гостиница безмолвствовала. Когда мы поднялись, где–то звучала пластинка: «Аид, Аид». Эта музыка обволакивала меня в объятиях Арезки. Теперь ее выключили. До нас доносились только свистки и голоса полицейских, повторявших команду. Они бегом поднимались по лестнице. Тяжелые шаги грохотали по ступеням. Вот они добрались до площадки. Остановились. Снова побежали. Почему Арезки не глядел на меня? Он курил. Закурил сигарету и положил почерневшую спичку на край стола. Он курил, внешне совершенно спокойный, точно ничего не понимал, не слышал. Они били кулаками в двери комнат. И ногами тоже, об этом можно было догадаться по силе ударов:
— Полиция!
— Полиция!
Я вся сжалась, не могла говорить. Во мраке, не шевелясь, я слушала и, как слепая, следила по звукам за ходом обыска. Теперь свистки раздавались внутри гостиницы. Кто–то прокричал приказ, и грохот шагов стал стремительно приближаться. Они уже были на нашем этаже, бежали к выходам. Голоса звучали странно, точно усиленные безмолвием гостиницы. Мощные фонари полицейских шарили по стенам, их лучи проникали даже к нам сквозь щели изношенных дверей. Один из полицейских, видно отставший, бегом догнал остальных.
— Все на ратонаду! [9] — сострил он.
Раздался хохот.
Хуже всего была тишина. Ни криков, ни жалоб, ни громкого голоса, никаких признаков борьбы. Полиция в пустом доме. Внезапно раздался грохот, потом глухой звук падения, стремительный топот. И опять тишина. На улице кто–то кричал.
— Живо, живо, живо!
Я сделала над собой усилие, встала, подошла к окну. Мужчин сажали в тюремную машину. Некоторым надели наручники. Они двигались гуськом, кто–то чистил локти, поправлял брюки. Ночь была светлая, холодная, прозрачная. Фонарь около полицейского автобуса освещал силуэты, лиц я не различала, только продолговатые головы, черное руно шевелюр. «О племя с головами баранов, подобно им ведомое на бойню…» Когда–то, в пору ожиданий настоящей жизни, эти стихи нам читал Анри. Низкорослый мужчина, последний в цепочке, замедлил шаг и стал шарить в кармане. Должно быть, кровь шла у него носом. Он откинул голову, утираясь рукавом. Один из полицейских это заметил, ринулся к нему, схватил за плечи и, обрушив на спину араба ливень ударов, толкнул к машине. Тот оступился, упал лицом на мостовую. Я отвернулась. Но сдвинуться с места не могла. Каждое движение казалось мне непристойным, но я была не в силах выдержать этот мрак, это безмолвие, этот едкий дым, поднимавшийся спиралью от сигареты Арезки. Почему Арезки молчал? Он не шевелился. Они уже дубасили в соседнюю дверь. По прихоти строителя, наша комната была задвинута в подобие коридорчика за уборной. Они должны были обойти всех, прежде чем доберутся до нас. Что они там делали? А те, другие, почему они не сопротивлялись? Не кричали? Сейчас сдвинусь с места. Подойду к Арезки, сяду рядом, возьму его за руку, уцеплюсь за него. Раздался крик, короткий, задушенный. Кто–то бежал к нашей двери. Знал ли спасавшийся, что все выходы преграждены? Казалось, он топтался на месте, тяжело и коротко дыша, его уже схватили. Я услышала звук падающего тела, восклицания, удары. Тело волочили по полу, швырнули на лестницу, оно покатилось, стуча о ступени. Раздалась музыка «Аид, Аид», удары в ладоши, голос обезумевшей женщины, звон и грохот разбиваемого предмета — проигрывателя, должно быть.
Наш черед. Все произошло мгновенно. Арезки зажег свет, повернул ключ. Они вошли. Трое. Заметив меня, они присвистнули.
— Руки вверх. Алжирец, марокканец, тунисец?
— Алжирец.
Они обшарили его карманы, рукава.
— Документы, платежную ведомость. Последнюю.
— Она там, — сказал Арезки, указывая на бумажник.
— Раздевайся.
Арезки колебался. Они взглянули на меня.
— Часом раньше, часом позже, потом не придется. Живее.
Я не отвернулась. Я старалась не двигаться, глядя в стену над головой Арезки, как слепая, глаза которой смотрят в одну точку, не видя. Арезки опустил руки и начал стягивать пиджак. Я не хотела встречаться с ним взглядом, мои глаза не должны были отрываться от стены над его головой.
— Ваши документы. Мадемуазель? Мадам?
Если бы я могла не дрожать. Чтоб дать им документы, мне пришлось взять с пола пальто, нагнуться, подняться, каждое движение причиняло боль.
— Вы не имеете права, — сказал Арезки. — У меня все в порядке, у меня нет оружия.
— Заткнись, братец, раздевайся. Уж не на свою ли получку разнорабочего ты покупаешь такие рубашки?
На нем была белая, тисненая рубашка, та самая, с бульвара Сен — Мишель, я ее узнала. Мимо двери, раскрытой настежь, прошли двое полицейских. Они вели мужчину в наручниках, третий подталкивал его коленом под зад.