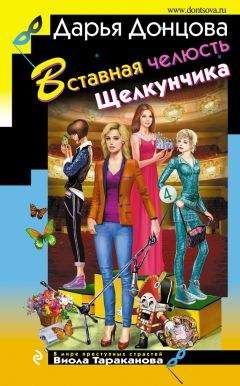Войцех Кучок - Царица печали
Антоний слышит, что к дому подъехала машина, но никак не может определить по шуму работающего двигателя чья, встает и выглядывает в окно, видит полицейских, быстро выходящих из своей машины и вбегающих в дом.
Зофья узнает песенку дождя, выстукиваемую сыном, больше она не может выдержать, открывает, видит полицейского — он сидит на спине Виктора и заламывает ему руки, а второй полицейский защелкивает на запястьях наручники.
Виктор не может поднять голову, он лишь слышит крик матери и голос полицейского, который решительно заталкивает мать в квартиру и призывает сохранять спокойствие. Придавленный полицейским, Виктор не может ни слова из себя выдавить. Виктор не может себе простить, что не успел зайти к родителям. Он не ожидал, что его так быстро вычислят. А он уже предвкушал воскресное объединение семьи за бульоном, как в давние годы, когда все было простым, когда мебель была большой, а для того, чтобы выйти из-за стола, надо было соскочить со стула на пол; когда ночью достаточно было позвать маму, чтобы прогнать страшный сон.
Антоний обнимает дрожащую Зофью и слушает полицейского, который объясняет, что Виктора арестовали по подозрению в убийстве; больше он ничего не слышит, даже Зофью, которая вся в слезах вопрошает, кого мог убить Виктор, и сама же отвечает, что ее сын и мухи не обидит; полицейский хранит молчание, у него нет соответствующих полномочий, полицейский просит прощения, но он всего лишь выполняет свой служебный долг, полицейский предупреждает, что в нужное время их вызовут для дачи показаний; Зофья вырывается из рук Антония, она хочет увидеть лицо Виктора, подбегает к окну, видит, как Виктора, с натянутой на голову курткой, сажают в полицейский фургон.
Зофья стоит у открытого окна, выглядывает, зажмуривается, потому что солнце отражается от капотов машин, от стекол и режет глаза, солнце впитывается в асфальт от зноя, от духоты. В такую жару случаются зрительные галлюцинации, миражи, видения, в такой день можно увидеть нечто невероятное, поэтому Зофья подзывает мужа к окну, чтобы тот подтвердил, удостоверил, что произошло, если вообще произошло, если вообще хоть что-нибудь могло произойти.
— Антоний…
Фантомистика
А когда мы выпивали друг друга до последней капли, она заворачивалась в простыни, как в кокон, оставляя мне одеяло или плед, и тогда мне приходилось лежать на шероховатой поверхности тахты, потому что ни в одеяло, ни в плед я завернуться не мог, слишком жарко было; да, жаркие были времена, самые жаркие из всех времен. А когда на ней уже не оставалось нецелованного места, она, задрапированная до глаз, смущенно смотрела на меня, как будто только теперь стала заметна эта ее рассыпанная в полумраке (очки, куда это я их опять, под тахту куда-то запихнул, не хочется искать — утром поищу, только надо будет повнимательнее быть, чтобы не раздавить; видать, никогда не научусь класть их на видное место) обнаженность. А когда, закутанная, она ждала, пока ее кровь успокоится и снова потечет по жилам равномерно, я знал, что мне нельзя вламываться в эту ее простынную зону, что сейчас она приходит в себя, а когда придет в себя, должна будет освоиться с обстановкой, почувствовать, что теперь она от груди до кончиков пальцев, от паха до лба, подкожно и наружно принадлежит только себе и что то, чем она давала мне поиграться, опять вернулось к ней и просит прощения за отлучку, за неверность, за невоспитанность; вот так свернувшееся клубком и обернутое простыней ее тело послушно возвращалось к ней, чтобы никто (то есть я) не смел подумать, что любовь дает ему постоянный абонемент на его, тела, благосклонность.
Он был чутким, он знал, какие вопросы лучше не задавать, когда замолчать, когда прикоснуться, когда оказаться рядом, а когда исчезнуть, он все это знал лучше меня; да, рядом с ним я была уверена, что не услышу чего-то вроде: «Тебе так хорошо? Скажи, хорошо? А может, лучше вот так?» — что я не услышу потом: «Ну и как тебе было?» — или еще хуже: «Сколько у тебя было до меня?» — что он не станет ко мне приставать и что будет присутствовать настолько, чтобы я могла его чувствовать рядом с собой и чтобы одновременно скучать по нему; просто он был чутким, да, пожалуй, самое точное слово. Чувственно-чуткий.
А когда птицы в окне разгоняли своими крыльями остатки сумерек и нашей бессонной ночи, я аккуратненько — так аккуратно, чтобы даже самая маленькая пружинка не скрипнула под нами, — прикасался носом к ее шее и проверял, сном ли она пахнет. А когда я начинал ощущать исходивший от нее запах сна, я осторожно вынюхивал, все ли в ней наверняка уснуло, потому что сон, для того чтобы ему высниться до конца и досыта, должен был охватить ее целиком; я сторожил этот момент как только мог, всматривался в ее рассыпанные по подушке волосы, не притворились ли они спящими на одно лишь мгновение под моим взглядом, а так на самом деле спать им не хочется и они решили просто погулять по подушке, смотрел во все глаза, и если ловил их на беспокойстве, то гладил их, уговаривая успокоиться, вглаживал в них колыбельную, вплетал их в сон. А когда уже и волосы начинали пахнуть сном, я, не приподнимая ее утренней фаты, пальпировал каждый участок ее тела, каждый мускул, проверяя, не выдает ли его какое напряжение, тем самым ее сон предавая, а если и случалось такой нащупать, я одним лишь прикосновением размягчал его, ослаблял, усыплял. А когда я уже точно знал, что все в ней крепко спит, я должен был задать ее сну правильный тон, так его настроить, чтобы ни один из демонов ночи не сел у нее на груди и не нашептал в ее уши страшных сказок, чтобы не превратил ее уста в свой рупор и не стал сквозь ее сон нести свою нагоняющую страх тарабарщину, от которой только пот, слезы и верчение с боку на бок. Тогда я брал судьбу ее сна в свои руки, которые возлагал ей на грудь, и запечатывал конверт с хорошим сновидением последней своей лаской, последней, но долгой, потому что я отходил от нее лишь тогда, когда на губах ее появлялся страж нежных грез — улыбка не от мира сего.
Я не знаю, когда он засыпал, мне никогда не удавалось заснуть второй и проснуться первой; всегда, когда я просыпалась, он был уже рядом, и — и это важно, это на самом деле было для меня важно — никогда в постели мне не случалось застать его спиной ко мне. Впрочем, раз мне удалось увидеть его спящим: вышло так, что я не могла выбраться из подъезда, странная история, никогда раньше я не сталкивалась с закрытой дверью внизу, видимо, в доме стали вводить новые порядки; что вроде как здесь живет средний класс, пусть не в смысле доходов, но уж точно в смысле претензий, а потому у каждого жильца должен быть свой ключ от парадного, чтобы никто не вошел и не вышел без согласия хозяина; пришлось вернуться, позвонить в дверь, но он не открыл (он всегда открывал, как будто стоял и ждал у двери, собственно говоря, всегда бывало так, как будто, нажимая на кнопку дверного звонка, я привожу в действие и сам звонок, и автоматического привратника, мне ни разу не пришлось ждать — наверное, он просто видел меня из окна, а это значит, что он высматривал меня, поджидал…), так что я подумала, может, он заснул наконец, уверенный, что он меня довольно долго не увидит, что я не увижу его спящего. Я достала ключи и открыла дверь, все это было довольно шумным — побрякивание ключей, постукивание каблуков, минутная возня в прихожей, — прежде чем я нашла в его куртке нужную связку, потом краем глаза за приоткрытой дверью я заметила одеяло. Вошла в комнату и чуть не закричала от страха: он лежал навзничь с открытыми глазами и не видел меня, он выглядел как мертвец, то есть он даже спал с открытыми глазами, и если бы не размеренное, в ритм дыхания, движение одеяла, я была бы уверена, что он умер. У-ве-ре-на, что умер.
А когда ее уже не было в квартире, когда она выходила вместе со своим каблучно-коридорно-исчезающим стуком, который потом внизу, под окнами, основательно растворялся в других уличных стуках, а у меня оставался только ее запах, я закрывал окно, чтобы не выпустить этот запах, и начинал поиски оброненного ею волоска — на одеяле, на моей рубашке, рубашке, которую она обожала надевать, потому что та очень хорошо сочеталась с бессонными ночами, с разговорами, с выходами на балкон и любованием луной, с гусиной кожей, с возвращениями в постель, с объятиями. А когда со мной оставались только ее запах, волосы и еще какие-нибудь еле заметные следы ее пребывания, я становился словно собака, которая никогда не может понять, что хозяйка вышла и скоро вернется, потому что для нас, собак, если хозяйки уходят, то уходят навсегда, и мы, собаки, каждый раз умираем от беспредельного одиночества, поэтому каждое их возвращение к нам становится невозможным чудом и возвращает нас к жизни. А когда она исчезала, то начинала всем — кожей, кровью, пульсом — думаться во мне, я старался вспомнить ее лицо и как мы познакомились, но от тоски не мог вспомнить, и тогда я пытался понять, кто мы такие и как все это у нас началось. Когда ее не было, то ее будто не было никогда; когда же она возвращалась, я забывал, что мы когда-либо расставались.