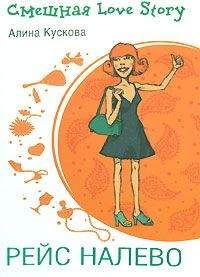Зиновий Зиник - Руссофобка и фунгофил
"Погоди, не торопись, не налегай так, — осаживал его Костя. — Желудок — он смазки требует, его закусью смазывать надо: выпил — закусил, слой смазки — рюмка водки, водка — смазка, смазка — водка, а ты все путаешь, путаник ты, Тоня моя милая, — бормотал заплетающимся языком уже не поспевающий за англичанином Костя и трепал Антони ласково по шее. Потом его вдруг как будто осенило: — Выпьем за Тоню! — гаркнул Костя и поднялся с рюмкой в руках, с грохотом отодвигая стул. Антони покраснел, заулыбался и тоже поднялся, чокаясь с паном Тадеушем. — Да не за тебя, Антон, я подымаю тост, а за свою соседку Тонечку. Выпьем за Тонину память! За Тонечкины чары, за ее власть!"
"Советскую власть?" — с готовностью приподнял рюмку Антон и.
"Тонечка была, — качнулся Костя, — всякая власть: и советская, и антисоветчиной тоже была, ветчиной была, говяжьей вырезкой и потрохами народными, она была весной в зимние морозы в виде свежего зеленого огурца, она была моим продмагом и домкомом, церковью и государством, единством духа и тела — а как отдавалась: вот это был действительно самовар! Шумит, гудит, булькает! Тонечка, короче, и была для меня — Россия! — И Костя, опрокинув себе в рот стаканчик, стукнул им по столу и плюхнулся на стул. — И оставалась бы моей Россией, если бы не произошло вмешательство Запада в мои внутренние дела", — с перекошенной миной заключил он панегирик соседке Тонечке.
"Должен прямо заявить, — набрался трезвости и смелости Антони, — я против советского вторжения в Афганистан".
"А как насчет вторжения Клио в нашу коммуналку? -поглядел на него строгим и остекленевшим взглядом Константин. — Охмурила меня братской помощью в виде лягушачьих лапок, оплела меня с ног до головы сушеными осьминогами, запудрила мне мозги басурманскими специями и всякой другой кулинарной нечистью — а когда я по рукам и ногам оказался связанным, стала предъявлять мне счета. Эта ее западная манера все считать: деньги, ответные визиты, чувства. Главное, чувства. Сколько раз я с Тоней совокуплялся, а сколько раз с ней — никакой душевной щедрости! Чего она втиралась ко мне в доверие, если не принимала нашей российской широты? Пыталась выманить Тонечку из-под меня своими джинсами. Не понимала, что Россию тряпками и побрякушками не соблазнишь!"
"Так вы что же — втроем жили?!" — ошарашенно пробормотал пан Тадеуш.
"Что значит - втроем? Опять счеты: вдвоем, втроем! Я вот и Клио втолковывал: неделимо человеческое тепло на купоны и рационы, не выдается оно по карточкам. Но ей страховка нужна половой жизни и чтоб никто не посягнул. Знаете, в чем трагедия западной цивилизации? Тут у девушек нет подруг! — объявил Константин, обведя мутным взором собутыльников. Те благоговейно молчали, пораженные этим загадочным выводом. — Не понимаете, да? Объясню. Вот в России: познакомишься с девушкой, а там, глядишь, и ее подруга к тебе начнет захаживать, за ней — подруга подруги, и так, мало-помалу клан образовывается, большая дружная семья, общинная жизнь. А здесь что? Что ни девица — сплошной, как тут говорят, куль-десак, а по-нашему — тупик. А если и есть у ней подруга — то ни-ни! А в результате что? — разобщенность! Сидят по домухам отдельными парочками, друг на друга глаз кривят, и, заглянув в окно к соседу, вешаются от зависти". — Константин налил себе водки и, не чокаясь, выпил.
"Я согласен, — с энтузиазмом согласился Антони, — западный индивидуализм — рассадник самоубийства!"
"Самоубийства ли только? — Костя икнул. — А как насчет убийства своего ближнего? И причем тихой сапой, втеревшись поначалу в доверие, как Клио. Сперва отвадила от меня всех моих друзей, разогнала коллектив, а потом и за соседку взялась, угробила безответную душу — сначала подкупом, а потом и прямым шантажом Тонечку укокошила!"
"Что вы такое говорите, Константин? — отрезвело встряхнулся пан Тадеуш. — Вы что же, Клио в убийстве обвиняете?!"
"Никого я ни в чем не обвиняю, — отрезал Константин. — Каждый будет осужден судом собственной совести. А я факты констатирую. Свела со света нашу Тонечку англичанка. Не остановилась перед доносом, стерва! Настучала старому хрычу. Кто мог подумать, что западный человек пойдет на такую подлость?" — В глазах у Константина стояли слезы.
"Она донесла на вас в КГБ?" - участливо спросил Антони.
"Да причем тут КГБ? Что вы тут зафиксировались все на этом КГБ, как будто это не КГБ, а ДДТ, а мы у себя там клопы вонючие. Клио пострашнее сообщника нашла: мужу Тонечкиному - вот кому она настучала, старому хрычу, который выписал Тоню из деревни в малом возрасте домработницей и за якобы измену избил ее до смерти костылем по доносу Клио. Так и отбыла она, поруганная, обратно в деревню".
"Вы же сказали, что она скончалась", — удивлялся Тадеуш.
"Ну да. В деревню отбыла, фигурально выражаясь: то есть — на тот свет. Разве иначе махнул бы я на Запад? Но тут такое началось: милиция, прокуратура, суд. Нужно сказать, о себе я лично меньше всего думал. Жаль мне стало Нуклию — что возьмешь с нее, с жертвы этого общества: врожденный эгоизм, от душевного недоедания, что ли? Не перенесла бы она Сибири. Пришлось отбывать на чужбину вместе".
"Значит, если бы не Клио, вы бы не уехали?" — участливо спросил Антони.
"Кто же из рая по собственной воле уезжает? — пожал плечами Константин — Вот Достоевский Свидригайлов говорил про то, что рай, или там вечность, представляется нам как нечто огромное и светлое, а на самом-то деле вдруг это такая темная комнатушка, чулан, вроде деревенской бани — закоптелая, а по углам пауки? Свидригайлов это в виде гипотезы выдвигал. А я был прямым жильцом именно такого рая. С запахом пережаренного лука, с гнильцой по углам, стены вокруг с прокопченными от готовки обоями, с шуршанием тараканов, в коридорчике половицы поскрипывают, в водопроводных кранах вода бурчит — вот это и был рай!"
В животе у кого-то из троих забурчало, но Костя не шевельнулся: он говорил, уставившись в одну точку, как будто сам с собой. Не замечал он и того, что с каждым его словом все острее чувствовался на кухне запах перегара, кислой луковой отрыжки, перестоявшегося уксуса в селедочном соусе. Антони явно мутило, но он боялся шевельнуться, избегая отяжелевшего взгляда Константина.
"Я был жильцом той вечности, которую советский народ собственными руками построил, — продолжал Константин. -Во имя всеобщей справедливости. И я эту справедливость принимаю. Мне в ней было уютно. С самого детства было уютно. У нас в коммуналке был такой чулан в стене, туда всякое барахло складывали, откроешь — и оттуда запах нафталина, старой кожи, чемоданов, шуб, человеческого тряпья, все кухонные запахи впитавшего, человеческого бытия запах, но уже потусторонний, не здешний. Мы всегда туда запирались, когда в прятки играли. Закрываешь дверь и нет тебя на свете, ты в другом, потустороннем мире, в раю. И все чаще мне на ум этот чулан приходит, когда Тонечкин рай вспоминаю. Каким был я кретином! Нечего было с басурманками связываться и трактаты писать, а надо было просто ловить кайф от незримого присутствия в этом чулане без Бога и без царя. Плевать было на окружающую действительность: демократия там за окном или диктатура? И о государственных границах не надо было думать, не было их, потому что за ними ничего не было: заграницы не было — не было и границ".
"Вы мне нравитесь, Константин, — с пьяной проникновенностью заговорил Антони. — Вы мне нравитесь! Давайте наплюем на разницу между диктатурой и демократией. Давайте сольемся в едином братстве, в единой семье, в коммуне, понимаете?"
"Где?" — икнув, неожиданно жестко переспросил Костя.
"Везде! — взмахнул руками Антони, чуть не упав со стула. — В коммуне не географической, а ментальной, спиритуальной, вне государственных границ, в неком внеисторическом времени, в раю, отвергнутом, как вы сказали, рационалистическим хомосапиенсом!"
"И где этот рай — у Жан Жака Руссо в яйцах, что ли? В женской утробе — эдакой, размером на весь мир? Ты, Антон, меня в космополиты не записывай: мой рай советский, за железным занавесом — для соблюдения девственности, и ни на какую другую утробу я его менять не собираюсь".
"Тянет обратно?" — не отставал от него Антони.
"Куда?"
"На родину".
"В утробу, что ли? Поздно. Этим мы в детстве занимались. И знаешь как? — Константин придвинулся вплотную к Антони. — С моим приятелем мы, подростками, запирались в чулан, снимали трусы и показывали друг другу, как у кого стоит. Но вот что с нашими вставшими членами делать — не знали. Мы считали, что стоящий член — само по себе мужское достоинство. Трогаешь его, щекотно, но и странное чувство гордости в животе нарастает. То есть, сначала испугались: думали, непонятное заболевание. Но второгодник с соседнего двора сказал, что так и надо: если стоит — значит мужчина. А что с этим делать — не сказал. Сказал только, что у него длиннее, чем у нас. Так мы и жили в полном невежестве, пока все во дворе не узнали, что дети рождаются из пуза при посредстве стоящей торчком пиписьки. А как — опять же никто не знал. Помню, целые дни проводили с приятелем на лавочке, наблюдая проходящих теток и обдумывали: у кого из них приятнее в животе очутиться? В этом и состояло все половое возбуждение: дрочить друг у друга, воображая себя в женском пузе, там уютно, свернешься калачиком, на мир через пупок глядишь. А потом приятель предложил в рот брать: чтобы, мол, до конца себя там внутри почувствовать. Брать-то в рот еще, можно сказать, нечего было: хоть и стоял, как штык, но размером с мизинец. Даже залуплять тогда не догадывались. Берешь в рот и сосешь, и в утробе себя ощущаешь. В рот весь целиком входил. Так вот, скажи мне, Антоша, зачем надо было в рот брать, чтобы в утробе этой себя воображать?" — с притворной наивностью спрашивал Константин.