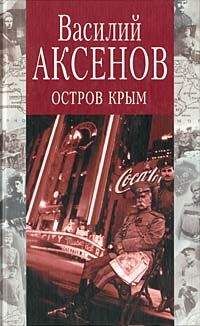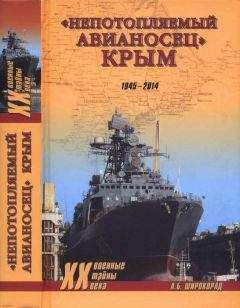Поль Моран - Парфэт де Салиньи. Левис и Ирэн. Живой Будда. Нежности кладь
— Только что в офисе я боялся вас еще больше, чем на Сицилии.
— А сейчас?
— Меньше… Когда вы не заняты делом, вы больше похожи на обыкновенную женщину. Я часто о вас думал… Вы не сентиментальны?
— О нет, сентименты выдуманы людьми, у которых нет сердца. Я часто вспоминала Сан-Лючидо.
— Ну вот вы и вознаграждены. Вы — женщина деловая, умеете быть настойчивой.
— А вы — деловой мужчина, поскольку умеете уступать.
— Я объясню, почему уступил: чтобы увидеть вас, — произнес Левис с нежностью в голосе.
— Давайте говорить серьезно. Вы уступили, потому что не могли сделать иначе. В случае неудачи вас ожидали бы большие финансовые затруднения. Поскольку вы достаточно хладнокровны, вы не опоздали, а только «порезали себе палец», как говорят на Бирже.
— Финансовые затруднения у Франко-Африканской корпорации из-за вложенных шести миллионов? — переспросил Левис.
— Дело не в корпорации, — спокойно ответила Ирэн, — а в вас. Ведь вы предприняли это дело по собственной инициативе, не ставя в известность ваш Административный Совет. Думаете, мне это не известно? Вы действовали так из гордости, я, наверное, поступила бы так же. По мере того как трудности нарастали, — а я, не скрою, этому способствовала, — ваши личные ресурсы или ресурсы ваших друзей истощались; вы надеялись к определенному моменту уже получить прибыль, а приходилось вкладывать новые суммы. Иногда все-таки борьба одного против всех почти невозможна, не так ли? Я понимала, что вы можете обратиться к тем, у кого в руках финансы. Но догадывалась, что вы предпочтете скорее выпустить изыскания из своих рук, чем вовлечь компанию в дело в тот момент, когда оно в плохом состоянии. Разве я ошиблась?
Левис не поднимал глаз от земли.
— Нет, — резко бросил он. — Вы не ошиблись.
Оба помолчали.
— С вами неприятно иметь дело, — выговорил он. — Ну почему вы не женщина?
Кровь ударила Ирэн в голову, она покраснела, глаза наполнились слезами, губы задрожали.
Левис понял, что обидел ее. Он взял себя в руки.
— У вас и на сердце грусть или только в глазах? Извините меня. Я хотел только спросить, зачем вы думаете, прежде чем говорить? Почему вы не улыбаетесь? Почему в ваших глазах не вспыхивает интерес, когда речь идет о вас? Почему вы сосредоточены только на том, что делают другие?
Но Ирэн не могла оттолкнуть от себя еще ту, предыдущую фразу.
— Это не совсем то. Не надо шутить. Что вы хотели сказать, спрашивая меня, почему я не женщина? У вас такое впечатление, потому что я уравновешенна? Но это природная черта.
— Я тоже от природы уравновешен, — продолжал Левис. — Я могу расхаживать в темноте с полным стаканом, не пролив ни капли.
Она оборвала его:
— Не шутите.
— Но если серьезные дела завершены, разве нельзя немного расслабиться? Вам больше понравилось бы, если бы я — после моего поражения — впал в дурное настроение?
— Вы, как кот, все время падаете на лапы. Я не люблю фантазеров.
— А я не люблю праведников… Я опасаюсь фанатиков и ценю прощение.
— Восхищаюсь совершенством ваших аргументов. Так мы можем продолжать до утра. Уже два часа, а дядя Солон приходит в тихую ярость, когда опаздывают к столу.
— Прежде чем покинуть вас, задам последний вопрос: между нами не осталось ничего недоговоренного?
Ирэн пожала плечами:
— Нет, слава Богу, нет!
— Мне тоже так кажется, — произнес Левис.
Она ушла от него, сохранив полное самообладание и выдержку. Она ушла: четкий профиль, загорелое лицо, резко очерченные бедра, на тонких лодыжках прозрачные, хорошо натянутые чулки, еле обозначенная под свитером грудь, на ветру бьются у плеча кончики повязанного вокруг шеи платка.
Но в сейфе офиса в Сити — надлежащим образом оформленный договор о передаче прав на изыскания.
Левис видел, как она, пройдя Ланкастер Гейт, вошла в дом кремового цвета, имевший, подобно всем остальным, нишу у дверного проема, где были выставлены столики красного дерева, серебряные шкатулки и фотографии с надписями. Есть Левис не хотел. Он вернулся к скверу Генриха Восьмого, который не казался оголенным даже зимой благодаря кустам самшита и вписывался в архитектурный ансамбль Букингемского дворца из розового и черного камня, где проводили дни те, кто служил английской короне. В задумчивости, отгоняя неприятные мысли, Левис остановился на площадке, вымощенной плитами, на этом замкнутом, как в монастыре, пространстве, образованном кустами и арочками глициний; рядом примостился дрозд.
Жизнь казалась заманчивой. Солнце вершило свое царственное движение; все было как на Сицилии. Неприятное дело осталось позади.
Вдруг набежало облако. Хорошее настроение переломилось. Левис понял, что теперь видит вещи в их истинном свете. Судьба казалась неумолимой.
— Как холодно, когда ее нет рядом, — прошептал он. — Как тоскливо!
Ирэн — словно открытие истины. Он уже знал, что, увидев ее снова, сделает ей предложение.
XIНа следующий вечер Левис уже ужинал у Апостолатосов, в Бэйзуотере.
Холл, подобно гостинным, был украшен слоновыми бивнями и итальянскими панелями эбенового дерева, теряющими от теплого воздуха калорифера детали инкрустации; дом хорошо обогревался: это была уже не Англия.
В салоне с обтянутыми дамасской тканью вишневого цвета стенами, на фоне однотонного малинового ковра — черные эмали из иранского Хорасана, нежные каннелюры из испанского Синиша. Французские полотна XVIII века были освещены иссушающим светом электрических ламп, съедавшим синие тона и превращавшим их в серые. Салон представлял собой своеобразный атриум, вокруг которого вилась балюстрада из навощенного дерева; с перил свисало шитье греческих мастериц из Янины, бархатные изделия из албанского Скутари, а над ними — огромные абажуры, расшитые рельефным узором. В простенке между окнами — кожаное арабское седло ярко-фиолетового цвета, отделанное золотой тесьмой; тут же вооружение эмира.
В специальных витринах — вышивки, похожие на те, что свисали с перил, но только более древние, с мелкими стежками, вплоть до мельчайших на византийской глади, уже утомительных для глаз.
Когда Левис вошел, милая — как говорится в русских романах — компания состояла из Ирэн и трех дам; две из них — престарелые кузины Ирэн, девицы Апостолатос, — поднялись. Между ними сидела их парализованная бабка, круглым лицом и осанкой напоминавшая Наполеона. Со своего кресла она следила за разговором, лицо ее ничего не выражало, но в глазах искрился ум. Возле нее на столике был разложен пасьянс.
Левис ждал, что увидит троих сыновей, банкиров Олд Джюри, но ни один из них не пришел к ужину. Зато появился в вельветовом костюме сэр Солон Апостолатос, старик отец, просунув сначала из-за отодвинутой родосской портьеры свой крючковатый нос, к которому был приставлен лорнет с висящей цепочкой; у него были оттопыренные уши, густая борода и выпуклые, как на микенских масках[19], глаза, на седых реденьких волосах — небольшая эспаньолка.
Хотя он был очень вежлив, продемонстрировав традиции греческого гостеприимства, Левис почувствовал в нем тирана, жадного, упрямого до маниакальности.
— Приветствую вас, — произнес он. Старик притворялся глухим, чтобы придать себе больше значительности. Ирэн подставила ему для поцелуя свою худую щеку. Он был с ней строг, как и со своими дочерьми.
Он не проявлял к молодежи никакого снисхождения, презирал все, что доставалось легко и приносило удовольствие, упрекал дочерей в том, что они забывают поздравить родственников в день рождения, что ведут себя с ним как равные, заняты только развлечениями, хотя на самом деле им было уже за сорок и жили они как затворницы. Сделав все, что в его силах, чтобы помешать им выйти замуж, он теперь попрекал их и тем, что они остались старыми девами; они боялись его, боготворили, уважали. Когда-то у него была жена, но она не вынесла дурного обращения. Обуреваемый восточной ревностью, он, перед тем как уйти из дома в банк, заставлял несчастную распускать волосы и защемлял их ящиками двух комодов, которые к тому же запирал на ключ.
Стол был богато сервирован, старый дворецкий прислуживал, словно на панихиде; он кружил вокруг стола, как во время крестного хода на Пасху в Афинах. В центре стола стояла большая корзина с цветами — не столько для красоты, сколько для того, чтобы служить преградой между сидящими за столом и таким образом уменьшить число возникающих конфликтов и окриков, вроде: «Если это будет продолжаться, я вас выгоню!», которые раздавались как минимум при каждой смене блюд и отравляли семейный ужин.
Угощенье было обильным и по-восточному жирным. Но папаша Солон придавал значение только фарфору, на котором ужин был сервирован.