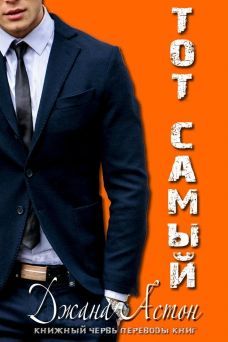Константин Сергиенко - Самый счастливый день
Две серебристые птицы. Одна из них я, другая она. Мы летим, плавно махая крыльями.
«Что это внизу?» — спрашиваю я.
«Патриаршьи пруды», — отвечает она.
«Тебе так идёт наряд птицы».
«Тебе тоже».
«А кто этот чёрный, грач или ворон?»
«Это Викентий. Он нас давно ждёт».
Мы делаем широкий круг и опускаемся на середину пруда. Его окружают большие дома, деревья. По аллеям идут нарядные люди. Посреди пруда круглый деревянный помост. На нём расставлены белые столики с букетами цветов, фруктами, сладостями. Между столиками суетится Викентий. На нём нарядный синий мундирчик с красными обшлагами и золотым позументом. На длинном носу очки, из кармана торчит гусиное перо.
«Что же вы опаздываете! — восклицает он. — Прямо заждался!»
«А мы летели», — отвечает она.
«Угощайтесь! — Викентий разливает по бокалам шампанское. — За вас!»
Мы чокаемся и пьём.
«Я так волновался, думал, куда вы пропали. Нынче не безопасно, охотников развелось».
За домами розовеет закат. Шампанское розовеет в бокалах. И мы розовеем. Только Викентий остаётся чёрным. Впрочем, на нём очень яркий синий мундир. Только в очках появляется розовый блеск. Мне делается грустно. Сердце щемит. Я говорю:
«Как бы нас не подстрелили».
«Здесь тихо, — отвечает Викентий, — одни студенты. Они приходят гулять».
«Мне кажется, вон у того ружьё».
«Нет, это трость», — успокаивает Викентий.
«А у того?»
«Это дудка. Кстати, — он пристально глядит на неё, — где твой красный берет?»
Она хватается за голову.
«Боже! Я его позабыла! Надо слетать».
«Но, может быть, завтра?» — говорю я.
«Нет, нет. Сегодня. И непременно!» Она взмахивает серебристыми крыльями и поднимается над прудом.
«Только быстрее!» — кричит Викентий.
Розовый цвет шампанского меркнет в бокалах. Оно становится апельсиновым, бронзовеет. Солнце глубоко пало за крыши домов, но небо ещё золотое. Играет духовой оркестр. Пары разгуливают по аллеям. А мне всё грустней. Лопаются последние пузырьки в бокалах. Её всё нет.
«Что-то мне беспокойно», — говорю я.
«Ничего, ничего, — Викентий берёт книгу, раскрывает её. — Вот тут сказано: “Не беспокойтесь по пустякам”».
«Какой же пустяк? — возражаю я. — Ты сам беспокоился. Говорил, не безопасно».
«За тебя, — отвечает Викентий, — но её-то никто не тронет».
«И всё-таки, — говорю я, — и всё ж…»
Я замолкаю. Викентий рассказывает длинную историю про кота-рыболова, который удит тут по ночам. Я зеваю. Как долго её нет. И всего-то слетать на подмосковную дачу. Я даже подрёмываю слегка, уж очень длинен рассказ про кота-рыболова. Внезапно звонит телефон. Чёрный телефон на белом столике.
«Это она, — говорит Викентий, — бери же, бери».
……………………………………
Надо мной стоит Вера Петровна и протягивает телефонную трубку На ней цветастый халат, в зубах сигарета. Она улыбается, подмигивает.
— Милый голосок.
Я вскакиваю.
— Сколько времени?
— Берите трубку. — Она ставит телефон на пол и уходит, посмеиваясь.
— Алё?
— Это я. — Слабый голос в трубке. — Я стою на улице, и мне страшно.
— Сколько времени? Где ты?
Оказывается, тут, на перекрёстке. Ушла из дома и боится вернуться назад. Чертыхаясь, начинаю одеваться. Гляжу на часы, половина второго. Бог ты мой. Вера Петровна бросает из полуоткрытой двери комнаты:
— Ключи не забудьте, Ромео.
На улице зябко. Скудно горят фонари. Она закрылась в телефонной будке. Дрожит.
— Что случилось?
— Не знаю. Я проснулась, мне стало страшно. Я убежала из дома.
Я обнимаю её, пытаюсь согреть.
— Это бывает. Я тоже вскакивал в детстве. Что тебе снилось?
— Не помню.
— Пойдём, я тебя провожу.
Мы медленно бредём на Святую. В доме прохладно, дрова прогорели. Я начинаю хлопотать у печи, разжигаю огонь. Она забирается в одежде под груду одеял.
— Извини, что так поздно…
— Ничего. Надо выпить чаю, согреться, и ты уснёшь.
Господи, сердце щемит. Этот жалкий огонь в печи, холодная комната, груда одеял. И она, совершенно одна. Где эти треклятые родители? Если б я мог тут остаться… Даже слов подобающих найти не могу, бормочу только:
— Комитет послезавтра. Тебя вызывают. Ты знаешь?
Молчанье.
— Я и сам думаю, что лучше тебе не ходить. Заболей, как всегда.
Молчанье.
Закипает чайник. Но когда я наливаю стакан, она уже спит, накрывшись с головой. Я долго сижу рядом. Горячий стакан в моей руке остывает…
Заседание школьного комитета ведёт Маслов. Секретарь, десятиклассник Матвеев болеет, а Маслов, конечно же, его заместитель. Мне кажется, скоро этот человек займёт кабинет директора и, расхаживая по паркету, как Наполеон, будет вопрошать: «Ну, как наши дела, Николай Николаевич?»
Гончарова тоже член школьного комитета. Кроме них, несколько десятиклассников, я знаю их только в лицо, и робкая восьмиклассница, теребившая всё заседанье косичку и робко глядевшая на «старших товарищей».
Маслов сразу взял быка за рога.
— Мы очень рады, что на нашем заседании присутствует учитель литературы Николай Николаевич. Мы не хотим зря расходовать его время, поэтому сразу приступаем к вопросу, в котором он мог бы помочь.
— Одну минуточку, — сказал я. — Ты, конечно, имеешь в виду вопрос с Арсеньевой?
— Не только, Николай Николаевич. Члены комитета считают, что этот вопрос очень важен. Он имеет отношение не только к Арсеньевой. Арсеньева всего лишь один пример.
— Какой вопрос? — спросил белобрысый десятиклассник.
Маслов повернулся к нему с серьёзным озабоченным видом.
— Ты, Мотылёв, не знаешь, потому что отсутствовал на прошлом заседании.
— Я тоже не знаю, — сказал другой десятиклассник, чернявый.
— Как не знаешь? Мы говорили! Об антирелигиозной пропаганде!
— А… — произнёс чернявый.
Маслов обратился ко мне:
— Вопрос гораздо шире, Николай Николаевич. В последнее время стали замечаться нежелательные явления. В восьмом «Б», например, Кулакова носит крестик.
— Она не комсомолка, — пискнула восьмиклассница.
— Потому и не комсомолка! — отрезал Маслов. — С крестиками в комсомол не принимаем. Так что дело не в одной Арсеньевой. Дело в целом явлении!
— А где же Арсеньева? — спросил я.
— Она не пришла, заболела. Мы этого ожидали. Но, я повторяю, дело не только в ней. Вопрос стоит широко.
— Всё это очень абстрактно, — сказал я. — Что касается Арсеньевой, то в церкви она оказалась случайно.
— Как это случайно? — спросила Гончарова.
— Провожала старушку, знакомую бабушки.
— Так мы и поверили! — сказала Гончарова.
— Я, например, поверил, Наташа.
— Это потому, Николай Николаевич, что вы плохо её знаете. А мы учимся вместе. Арсеньева держится особняком, она чужак в нашем классе. Я не удивлюсь, если узнаю, что она каждый вечер молится! Смотрите, она опять не пришла! Ей просто наплевать! Сколько так может продолжаться?
— Это какая Арсеньева? — спросил белобрысый.
— Вот видите! — воскликнула Гончарова. — Её никто не знает, она не была ни на одном собрании! Зачем нам такие комсомолки?
— Подожди, Гончарова, — солидно сказал Маслов. — Дело не только в Арсеньевой. Я уже говорил.
— А чего она на собрания не ходит? — спросил чернявый.
— Потому что антиобщественный человек, индивидуалистка!
Дверь приоткрылась, в неё сунулась голова Камскова.
— Можно поприсутствовать?
— А, Камсков, заходи, — сказал белобрысый.
— Здесь комитет, — сухо произнёс Маслов.
— Но не закрытый, — возразил белобрысый. — Камсков с вами учится? Знает Арсеньеву?
— Прекрасно знаю, — сказал Камсков и сел в отдалении на стул.
— Какое у тебя о ней мнение?
— Хорошее.
— Хм… а ты знаешь, что она ходит в церковь?
— Ну и что?
— Как что? — белобрысый поглядел на Маслова. — У тебя заседание не подготовлено. Люди разное говорят.
— Во всём классе он один защищает, — вмешалась Гончарова.
Камсков усмехнулся.
— Слабых надо защищать, Гончарова.
— Нашёл слабую!
— Попрошу внимания! — сказал Маслов. — Ставится вопрос об антирелигиозной пропаганде.
— Её вообще нужно исключить! — сказала Гончарова.
— Откуда? — спросил Камсков.
— На собрания не ходит! Общественные поручения не выполняет! Её попросили участвовать в самодеятельности, она отказалась! Почему надо держать таких? Я предлагаю исключить!
— Откуда? — снова спросил Камсков.
— Что ты кривляешься? Сам знаешь, откуда. Кроме того, ты не член комитета. Зачем тут сидишь?
— Я спросил разрешения.
— Арсеньеву мы исключим, так и знай!
— Откуда?
— Из комсомола!