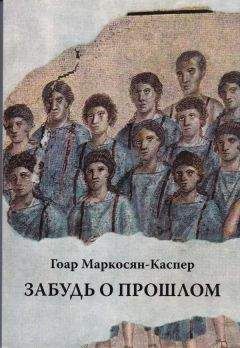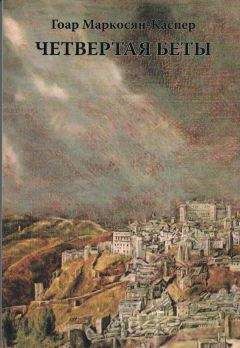Гоар Маркосян-Каспер - Пенелопа
— Скажи, Миша-Лева, — спросила Пенелопа, поворачивая к себе львиную голову и заглядывая в грустные пластмассовые глаза, — а как это у львов? Львиные мужчины тоже ведут себя так… по-заячьи? Хотя откуда тебе знать, тебя же на фабрике сделали.
Миша-Лева только вздохнул и прижался к Пенелопе покрепче, замерз бедняга, мех у него был совсем холодный, и Пенелопа втянула его под одеяло, в которое еще раньше закуталась сама.
— Ты, Миша-Лева, лучше их всех, — сообщила она льву. — Ты не способен ни обмануть, ни предать. Жалко, черт побери, что этих гадов и уродов не делают на фабриках и не продают в универмагах по двадцать пять рублей штука… теперь уже драмов… двадцать пять драмов — это, конечно, не деньги, кило баклажанов или полпончика… Хотя большего эти гады и уроды и не стоят, их же не поштучно надо покупать, а дюжинами. Купила, заперла в чулан или подвал, выпускаешь по одному, выгуливаешь, да не просто так, а на поводке, видишь — не то, раз — и на свалку. И за следующим… Однако мы с тобой заболтались, ты не находишь? Уже чуть ли не вечер на дворе. Так и немытой можно остаться. А немытых, Миша-Лева, в рай не пускают. Тебя вот не пустят, потому что ты сроду немытый… Ну не плачь, не плачь, я тебя пронесу. В мешочке для вязанья. Возьмешь спицы в руки, тьфу, в лапы, будто б ты свитер…
Неожиданно зазвонил телефон. Длинные гудки, междугородняя, не иначе как… Пенелопа выпрыгнула из своего кокона, опрокинув на бочок злополучного Мишу-Леву, и кинулась в прихожую, цепляясь за кресла и журнальный столик. Бумс! — слетел на пол и звонко брызнул осколками и остатками светло-желтой жидкости (грузинский чай пьем, докатились!) чашко-бокал… ничего, этого добра еще немало, успела бодро подумать Пенелопа, прежде чем схватить трубку и поднести ее к нижней челюсти — последнее она проделала столь стремительно, что пребольно стукнула себя по зубам.
— Алло, Пенелопа?
Да это же sister, а вовсе не Армен… Фи, Пенелопа, как тебе не стыдно, ты чуть ли не разочарована, ах вы, подлые мужчины, из-за вас уже и родной сестре не радуешься, гады и уроды, кыш, проклятые, чума на оба ваши дома…
Голос у Анук был веселый:
— Алло, Пенелопа? Как дела? Все лопаешь?
— Нет, — отозвалась Пенелопа бодро. — Уже слопала весь околоток, больше лопать нечего.
— И пни долопала?
— Какие?
— Обыкновенные. Сосновые, кленовые, дубовые, тебе лучше знать. Это же ты подписала свою телеграмму «Пнелопа».
Ага. Телеграмму Пенелопа соням в меду (последнее время она подумывала переименовать их в сплюшек, душа властно требовала перемен, удерживало только то, что сплюшки ведь совы, а сова — символ мудрости, еще зазнаются родственнички) отправила по поводу очередной даты бракосочетания, дата, правда, была далеко не круглой, а телеграммы стали стоить безбожно дорого, но Пенелопа любила красивые жесты. А что до подписи, так эта поправка, можно сказать, щадящая, вот когда Асланян превращается в Осланян, как однажды случилось с Карой…
— Пни я лопаю только кипарисовые и пальмовые, — сообщила она. — Так что теперь вынужденный перерыв. Кстати, мы тут недавно купили пальмовое масло. У вас там есть пальмовое масло?
— Не знаю, не встречала. Вкусно?
— Точно лист колибри.
— А может, перо кольраби?
— Может. Как у вас дела?
— Нехудо. Нехило, как тут говорят. Сценарий продали.
— Ух ты!
— А ты уже гуляешь? Приехать не хочешь?
— На какие шиши? — спросила Пенелопа выразительно. — Билетики-то опять того…
Анук только вздохнула.
— Родители дома?
— Куда они денутся! Сейчас. — Пенелопа прижала трубку к груди и завопила: — Мама! Папа! Папа, где ты? Да мама же! Тьфу, черт! — Она положила трубку рядом с телефоном и помчалась в родительскую спальню, куда удалились вокалисты, дабы вкусить послеобеденного отдыха. Сиеста, господа просят не беспокоить.
— Мама, папа, вы что, не слышите? Ору, ору. Анук звонит.
— Кто? — удивилась мать, в то время как полураздетый, в смысле, снявший нахарарские доспехи и оголившийся до свитера-жилета-жакета отец уже побежал рысцой в прихожую.
— Дочь твоя. Твоя старшая дочь. Любимая и единственная.
— Почему единственная?
— Единственная любимая.
— А почему Анук?
— Потому что теперь ее зовут Анук.
— Как зовут? — не поняла мать. — Кто зовет?
— Я. Я зову.
— Ты будешь давать имена своим дочерям, когда они у тебя появятся, а я свою назвала Анаит.
— Фи, мама, — скривилась Пенелопа. — Скучно с тобой. Ну что такое Анаит? Куда ни повернешься, всюду Анаиты, Анаиты, улицы ими можно мостить вместо булыжников.
— Улицы у нас асфальтируют, — возразила Клара. — Булыжников не требуется.
— Тем более. Иди лучше к телефону.
— Сейчас, — сказала мать, надевая халат, — все равно отец ваш не даст, пока сам не наговорится.
Оставшись одна, Пенелопа машинально заглянула в зеркало и ужаснулась. Волосы свисали беспорядочными тусклыми лохмами, и даже лицо казалось нечистым. Время-то идет! Надо бежать. Она выскочила из спальни навстречу умиротворенному отцу, обошла прильнувшую к телефону мать и стала быстро подбирать осколки бокала.
Глава пятая
В подъезде Пенелопа наткнулась сразу на двух приходящих соседок — Римму-Розу, незадачливую дочь старушки с добрыми глазами, сестру несостоявшегося фаворита фортуны, который по известным ему одному причинам предпочел увешанной бриллиантами жене, прилагавшейся к ней автомашине и прочим благам отечественный ширпотреб на сумму 1200 рублей (подробности см. выше) и швабру с повылезавшей щеткой (подробности см. там же, чуть ниже).
На секунду Пенелопа выпучила глаза, ей показалось, что швабра раздвоилась — с чего бы это, не со стаканчика же «Гарни», самого легкого из легких вин, наилегчайшего, выражаясь языком борцов и штангистов, — потом, однако, до нее дошло, что дело не в раздвоении как таковом ибо делением, как известно, размножаются только простейшие, но в процессе, близком к оному. Иными словами, рядом с матерью стояла дочь, точная копия родительской особи, начиная со щетки и кончая ручкой, разве что выглядела она чуть посвежее или, продолжая хозяйственную терминологию, поновее, кожа ее была более упругой и менее блеклой, а волосы вроде немного погуще, но армянку она, на горе бабушке, не напоминала ни единой чертой лица, а тем пуще ни единым изгибом тела, лишенного таковых напрочь. Надо заметить, впрочем, что шваброобразной статью она вышла в мать не более чем в отца, ибо сей доставленный в нежном возрасте из дальних краев в Армению единственный сын патриотичной дамы с верхнего этажа, достигнув возраста брачного, оказался не только владельцем кандидатского диплома, но и счастливым обладателем роста в метр девяносто, что гораздо существеннее, поскольку кандидатов наук в Армении пруд пруди, а вот мужчин достаточно высоких можно пересчитать по пальцам, и если их еще не занесли в Красную книгу, то лишь по недосмотру заносителей. Таковые мужчины отлично сознают свое преимущество, посему они хоть и не занесены, но заносчивы чрезвычайно — правда, не все, иные, нам уже небезызвестные, дают обвести себя вокруг… ну, эдакого длинного не просто обведешь, а накрутишь на палец в несколько сот витков, на палец и неудобно как-то, лучше смотать в клубок или намотать на катушку, получится соленоид… ну и словечки ты знаешь, Пенелопа! Соленоид не от ноты соль и не от соли, крупной, столовой, йодированной — последнюю не дай бог по рассеянности сыпануть в соленье, все размякнет, огурцы превратятся в кашу, — нет, соленоид от слова… какого же? Никак не от соло и совсем не от солнца, а… А?
— Добрый день, — сказала Пенелопа, пытаясь обойти забаррикадировавшую лестничную площадку троицу — но не церковную, даже если б мать и дочь по худобе и бледности сошли за какие-то ипостаси, за ту, которую снесли с Голгофы, во всяком случае, то Римма-Роза на вакантную роль святого духа претендовать не могла никоим образом, ибо за последние год-два раздобрела настолько, что являла собой плоть в ее крайнем воплощении, и не только сквозь нее, но даже мимо просочиться было сложно.
— А, Пенелопа? — обрадовалась Римма-Роза куда более бурно, чем следовало ожидать. — Здравствуй, Пенелопа. Давненько я тебя не видела. Как живешь? Замуж не собираешься?
— Чего ради? — уронила Пенелопа небрежно. — Стирать носки какому-нибудь самовлюбленному болвану? Или негодяю?
— Почему обязательно болвану или негодяю?
— Да они все болваны. Или негодяи.
— Это верно, — со вздохом согласилась немало поднаторевшая в деле познания негодяев Римма-Роза и заключила: — Но замуж все-таки выходи.
— Зачем?
— Ну… Надо.
— Мне не надо, — сказала Пенелопа со значением.
Люди в большинстве своем хотят быть как все, и нехитрое это желание на протяжении жизни остается обычно неизменным. Меньшинство стремится отличаться от прочих и на первой поре, по молодости лет, стремится отличаться во что бы то ни стало, лезет из кожи вон, чтобы это отличие — существующее или воображаемое — подчеркнуть. Со временем или с возрастом многие из этого меньшинства дозревают до той степени мудрости, при какой им становится наплевать, видят окружающие их отличность от других или нет.