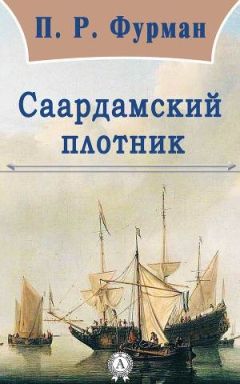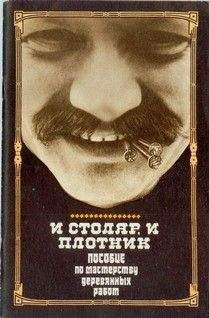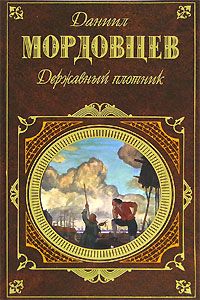Ирен Немировски - Французская сюита
— Погодите, сорванцы, сейчас я вам помогу! — воскликнул Филипп.
Он подхватил сутану, чтобы не мешалась, пролез в окно вслед за мальчишками и оказался в гостиной с мебелью в белых чехлах и сияющим ледяным блеском паркетом. Кюре пошарил рукой по стене, ища выключатель. Нашел и зажег свет — никого. Филипп стоял и приглядывался — мальчишки или убежали, или спрятались: широкие чехлы в складках на канапе, пианино, глубоких креслах, занавеси на окнах из кретона с набивными цветами могли помочь им в игре в прятки. Он подошел к одной из оконных амбразур — показалось, что шевелятся занавески, резко раздвинул их — так и есть, один из его подопечных оказался здесь, самый старший, почти мужчина, смуглый, с красивыми глазами, низким лбом и мощной челюстью.
— Что вам понадобилось в доме? — осведомился кюре.
Он услышал шорох у себя за спиной и обернулся: второй паренек тоже оказался здесь и стоял позади него, и этому пареньку с тонкогубым, презрительным ртом тоже было лет семнадцать-восемнадцать. Филипп почувствовал: в них проснулось что-то звериное, и приготовился принять меры предосторожности. Но они оказались проворнее — один подсек его и повалил на пол, второй вцепился в горло. Филипп безмолвно и не без успеха сопротивлялся. Ему удалось схватить душителя за шиворот и в свою очередь прижать так, что тот его отпустил. Они катались по полу, и кюре услышал звон, у него из кармана посыпались деньги.
Наконец полузадушенному Филиппу удалось приподняться и сесть на пол.
— Поздравляю, — сказал он. — Быстро работаешь. — А про себя подумал: «Ни в коем случае не устраивать трагедий; как только я уведу их отсюда, они опять станут покорными, как дрессированные собачки. Завтра разберемся!» — и прибавил: — Побаловались, и будет. Пошли.
Но едва он произнес эти слова, как подростки снова набросились на него, отчаянно, яростно и свирепо; тонкогубый впился в него зубами, и потекла кровь.
«Того и гляди, убьют», — с недоумением подумал кюре. Подростки вцепились в него озлобленными волками. Он боялся причинить им боль, но не мог не защищаться — руками, ногами он отбрасывал их, но они с тем же ожесточением снова кидались на него, потеряв все человеческое, обезумевшие демоны, звери… И все-таки Филипп был сильнее и поэтому получил по голове столиком на золоченой ножке, упал и, падая, услышал, как один из мучителей подбежал к окну и громко свистнул. Больше он уже ничего не видел — не видел, как двадцать восемь подростков, мгновенно проснувшись, пронеслись по лужайке и влезли в окно, как раздирали, потрошили и выкидывали мебель. Они опьянели, они плясали вокруг лежавшего на полу кюре, пели, орали; самый маленький из них, похожий лицом на девочку, прыгал изо всех сил на софе, и старые пружины жалобно стонали. Те, что постарше, разыскали погреб с винными бочонками. Толкая перед собой, они прикатили один в гостиную, открыли, но он оказался пуст. Впрочем, зачем им вино? И без него они захмелели, им хватило преступления, оно сделало их счастливыми. Взяв Филиппа за ноги, они поволокли его к окну, вытолкнули наружу, и он тяжело упал на лужайку. Дотащили до пруда, раскачали, как тюк, и — смерть! «Смерть!» — кричали подростки хриплыми, срывающимися, а у иных — тонкими детскими голосами. Но когда Филипп упал в воду, он был еще жив. Инстинктивное желание жить, а может, последний всплеск мужества удержали его на поверхности; обеими руками он уцепился за низко склоненную ветку дерева и попытался встать. Разбитое кулаками и каблуками лицо, распухшее, кровоточащее, выглядело смешной и уродливой маской. В нее-то подростки и стали бросать камнями. Филипп держался, цепляясь из последних сил за раскачивающуюся ветку, но она обломилась. Он попытался добрести до другого берега, и тут же в него посыпался град камней. Филипп поднял руки, заслонил лицо, и подростки увидели, как фигура в черной сутане погружается в воду. Он не утонул, его засосал ил. Так он и умер, стоя по пояс в воде, голова откинута назад, левый глаз выбит камнем.
26Каждый год в соборе Нимской Богоматери служили панихиду по покойным Периканам-Мальтетам. В Ниме жила матушка мадам Перикан. За дорогих усопших молились только тучная полуслепая старуха, чьи хрипы и сопенье перекрывали голос кюре, и ее кухарка, жившая в доме вот уже тридцать лет, поэтому служба проходила в боковой часовенке и была недолгой. Мадам Перикан в девичестве носила фамилию Кракан и была в родстве с теми самыми Краканами из Марселя, что так необыкновенно разбогатели на торговле растительным маслом. Таким происхождением можно было гордиться, и она, само собой, гордилась им (ее выдали замуж с приданым в два миллиона — и не каких-нибудь, а довоенных), но и ее происхождение меркло в ослепительном сиянии семейства, с которым она породнилась. Ее мать, старая мадам Кракан, разделяла взгляды дочери на родню зятя. И, поселившись в далеком Ниме, верно и преданно поддерживала все традиции семейства Периканов: молилась за усопших, поздравляла живых со свадьбами и крестинами. Напоминая тех англичан, что, находясь в колониях, одиноко пьют за здоровье королевы, когда весь Лондон празднует ее день рождения.
Заупокойная служба доставляла мадам Кракан тем большее удовольствие, что, возвращаясь из собора после панихиды, она заходила в кондитерскую и выпивала там чашечку шоколада с двумя булочками. Ввиду тучности мадам, домашний доктор держал ее на строжайшей диете, но в этот день она вставала раньше обычного, пересекала огромный собор от украшенного скульптурами портала до своей скамейки, очень уставала и поэтому подкрепляла силы без малейших угрызений совести. Иногда, пока кухарка, которую мадам побаивалась, молча стояла навытяжку к ней спиной у дверей кондитерской, держа в руках два молитвенника и шаль хозяйки, она придвигала к себе блюдо с пирожными и с рассеянным видом уписывала слойку с кремом или корзиночку с вишнями, а иной раз то и другое.
На улице ее ждала коляска, запряженная двумя старенькими лошадками, кучер, почти такой же толстый, как мадам Кракан, солнце и тучи мух.
Но в этом году все шло не так, как обычно. Периканы после июньских событий добрались до Нима и одну за другой получили вести о смерти старика Перикана-Мальтета и Филиппа. О первой смерти их известила монахиня монастырской больницы, где старик отошел «беспечально, безболезненно и по-христиански», как написала сестра Мария из монастыря Святых Даров, «доброта его к родным была беспредельна, и он потрудился оставить подробнейшее завещание, которое будет в ближайшее время переписано и отправлено родственникам».
Мадам Перикан несколько раз перечитала последние строчки, вздыхая с озабоченным видом, но тут же лицо ее приняло скорбное выражение, подобающее христианке, узнавшей, что близкий человек отправился с миром к Благому Господу.
— Ваш дедушка сидит теперь рядом с младенцем Иисусом, детки, — сообщила она.
Не прошло и двух часов, как новый удар обрушился на семейство Периканов: мэр одного городка на Луаре скупо, без всяких подробностей сообщал о преждевременной гибели кюре Филиппа Перикана и присовокуплял документы, которые не оставляли никаких сомнений, что погиб именно он. Тридцать подростков, бывших на его попечении, исчезли. Пропажа никого не удивила, после бегства одна половина французов разыскивала другую. Периканы слышали об упавшем в воду грузовике, как раз неподалеку от того места, где погиб Филипп, и не сомневались, что вместе с этим грузовиком погибли и несчастные сироты. В довершении всех бед они получили похоронную Юбера, он погиб в сражении при Мулене. Полная катастрофа. Непоправимое несчастье исторгло из груди матери вопль отчаяния и гордости:
— Я дала жизнь герою и святому, — заявила она. — Наши сыновья заплатили жизнью за жизнь других, — прибавила она, сумрачно глядя на свою кузину Кракан: сын кузины нашел себе тихое местечко в тыловой службе Тулузы. — Милая Одетта, сердце у меня кровоточит, ты знаешь, я жила ради детей, была матерью и только матерью, — мадам Кракан отличалась немалым легкомыслием в юности и опустила голову, — но клянусь тебе, гордость, которую я испытываю, заставляет меня забыть о боли.
Прямая, горделивая, исполненная достоинства, уже чувствуя вокруг себя колыханье траурной вуали, она проводила до дверей уныло вздыхающую кузину.
— Воистину римлянка! — сказала та.
— Всего-навсего честная француженка, — сухо ответила мадам Перикан и повернулась к ней спиной.
Ответ немного облегчил ее жгучее нестерпимое горе. Она всегда уважала Филиппа, догадывалась, что сын не от мира сего, знала, что он мечтал о миссионерской деятельности, и если отказался от нее, то из высочайшего смирения, приняв наиболее тяжкое служение Господу: покорное исполнение каждодневных обязанностей. Она не сомневалась, что сын ее сейчас подле Иисуса Христа. О близости своего свекра к Иисусу она сказала без большой уверенности и корила себя за сомнение, хотя… Но Филипп… «Я вижу его там, будто сама нахожусь с ним рядом», — думала она. Да, она может гордиться Филиппом, сияние его души освещало и ее саму отблеском света. Куда труднее с Юбером — добродушный, пухлый, губастый Юбер, с пальцами в чернилах, получавший в лицее нули, грызущий ногти, погиб как герой. Нет, ей трудно было себе это представить. Она рассказывала растроганным друзьям об его отъезде: «Я пыталась его удержать, но понимала: нет, это не в моих силах. Совсем ребенок, но такой мужественный, он погиб, спасая честь Франции». Как сказал Ростан: «Вдвойне прекрасно, если бесполезно…» Она перекраивала прошлое. Ей казалось, что в самом деле она сама произнесла эти великолепные слова, она сама отправила сына на войну.