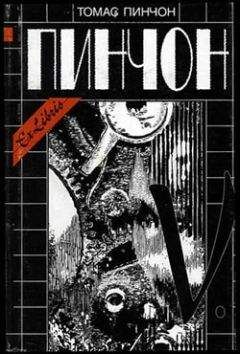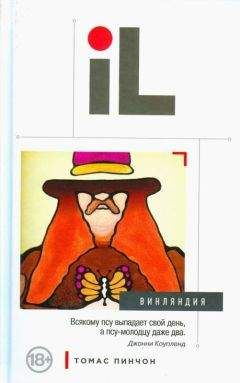Давид Гроссман - С кем бы побегать
Выступление у «Центра Зив» тоже прошло благополучно. Там она пела еще хуже, целиком погруженная в гложущую ее загадку, и тем не менее публика пришла в восторг. Необъяснимо. Все эти овации лишь доказывают, сколь велик разрыв между ее собственным ощущением и чужим восприятием ее пения. Правда, эту, очень характерную, оскомину, остававшуюся после неудачного выступления, Тамар знала прекрасно. В такие минуты выплескиваемая на нее любовь лишь подчеркивала ее внутреннее одиночество и чувство, что никто ее не понимает.
Как Шай сказал года два назад, после какой-то халтуры, «иногда гораздо оскорбительнее, когда тебя любят по ошибке, чем когда ненавидят по делу».
Люди подходили и взволнованно жали ей руку, расспрашивали и выражали тревогу, и ей было приятно, что за нее вот так беспокоятся.
И еще там был полицейский. Далеко, в сторонке. Но он был занят каким-то дорого одетым господином, который взволнованно что-то говорил и ожесточенно размахивал руками, — судя по всему, повествовал о каком-то ужасе, случившемся с ним. Полицейский слушал, что-то записывал и на Тамар ни разу даже не оглянулся.
— На этот раз чуть получше, — вырвалось у Тамар, когда она передавала Мико деньги.
Потом всю дорогу она истязала себя за эту фразу, сгорая от стыда, что так старается его ублажить. Что получше, что? Что денег больше заплатили? А если денег заплатили меньше, так ты меньше стоишь? Меньше, чем Шели? Подхалимка…
Впервые с тех пор, как она вышла на улицу, Тамар поняла, что торгует собой — в самом буквальном смысле. Она поклялась себе, что никогда, никогда больше не станет извиняться за скудный заработок. Ни перед Мико, ни перед Пейсахом, вообще ни перед кем на свете. Она выпрямилась на сиденье машины и вздернула подбородок. И тут же вспомнила Теодору. Ее занятие, ее призвание — петь, твердо сказала себе Тамар, все прочее — не ее дело.
На хайфском променаде Бат-Галим она спела португальскую песню «Как сладко в море умереть». Прежде Тамар почти не работала над этой песней, и тем не менее, увидев море, она тут же услышала мелодию внутри себя и, подхваченная ею, свободно и уверенно, точно опытная певица, спела песню, а потом, резко сменив темп, со знакомым ей наслаждением слаломиста, выдала лихую «Бени, Бени, сорванец». Ее руки взвивались, как языки пламени, и Тамар приплясывала, рубя воздух с таким ожесточением, какого никогда не позволяла себе на вечеринках. На несколько минут она стала Рики Галь — с ее бьющим ключом жизнелюбием, раскованностью и нимбом светлых волос, взлетающих к облакам лилового дыма… Парень с девушкой, немногим старше, чем она сама, быть может солдаты в увольнении, начали с азартом танцевать рядом с ней. И Тамар пела для них, заводя их и себя, наконец-то она смогла ухватить то, чему Алине не удавалось научить ее в течение нескольких лет, — не бояться чужого воодушевления, не таращиться в пространство за спинами слушателей, словно она не имеет никакого отношения к тому, что с ними вытворяет. За время уличных выступлений Тамар научилась не пугаться реакции публики, научилась без колебаний смотреть им прямо в глаза, улыбалась им, и уже не однажды, безо всякого стеснения, она пела для какого-нибудь человека в толпе, для человека, который ей понравился и который мог, как казалось ей, по-настоящему понять песню. И Тамар в упор смотрела на него и даже чуть заигрывала с ним, порой чувствуя, что своим сверлящим взглядом не на шутку смущает беднягу.
А теперь ее еще возбуждала мысль о том, что каждый из них гадает, кто она такая, откуда взялась, какая история стоит за ней. Это тоже было совершенно новое чувство — ничего общего с выступлением в хоре, среди девочек-паинек в одинаковых костюмах. На улице Тамар чувствовала — всем телом, всей кожей чувствовала, — как люди пялятся на нее, роются в ней, примеряют к ней истории и приключения. Может, она сиротка, вынужденная пением добывать себе на хлебушек. Или будущая рок-звезда из английского городишки, втюрившаяся в израильского парня, который ее, бедняжку, бросил лить горючие слезы, и теперь ей надо заработать на обратный билет. Или восходящая звезда Парижской оперы, путешествующая инкогнито по самым захолустным странам, чтобы закалить характер и набраться опыта. Или больна раком прямой кишки, а потому решила провести последний оставшийся ей год в бурных приключениях. Или проститутка, в дневные часы очищающаяся кристально-прозрачным пением…
Было что-то захватывающее в этом выступлении на берегу моря, в этих мелькающих перед глазами образах, в ее голосовой раскованности. Тамар вдруг заметила, что впервые в жизни вспотела от пения, и это ее так завело, что даже когда Мико подал знак закругляться, она спела еще одну песню, проигнорировав его злобный взгляд, — спела «Дурочку-дурочку», обнимая себя и покачиваясь в ритме волн и обманчиво-нежной мелодии, маскирующей укусы язвительных слов:
Дурочка-дурочка, дурочка-дурочка,
Смотри, до чего ты, дурочка, дошла!
Дурочка-дурочка, дурочка-дурочка,
Высох твой пруд, замолчала дудочка…
В самозабвении и горькой неге Тамар слегка пританцовывала на месте:
Струнки твои тонкие,
Сны такие ломкие,
Ты сама их там растила,
Вот они тебя и пилят…
Когда же все разошлись, Тамар увидела, как в сторонке кружит пожилая женщина, не отрывая взгляда от асфальта, ныряя под скамейки, кусты.
— Ну вот здесь же я стояла, — забормотала она, наткнувшись взглядом на Тамар. — Может, упал? Или стащили? Но как? Скажи, ну как это, как? Я только на минутку остановилась послушать песенку, как вдруг вижу — нет, нет его!
— Кого нет? — У Тамар упало сердце.
— Бумажника со всеми деньгами и документами.
У женщины было широкое лицо с красной сеточкой сосудов по бокам огромного носа, на голове покачивался вавилон из крашеных ярко-желтых волос.
— Сегодня получила триста шекелей от босса на свадьбу моей дочки. Триста! А он таких денег никогда не дает! И вот всего на минуточку остановилась тут тебя послушать. Ой, я идиотка! Ничего, ничего не осталось!
Ее голос сорвался. Тамар протянула ей все шекели, которые накидали ей в шапку:
— Возьмите!
— Нет, нет, не надо! Нельзя! — Женщина отпрянула, жалостливо дотронувшись до руки Тамар. — Нельзя… тебе надо кушать… маленькая… такая цыпочка — и еще мне даешь? Нет, нет, нехорошо…
Тамар всунула деньги ей в руку и убежала. По пляжу она брела мрачнее тучи, а оказавшись в машине, объявила:
— Денег нет. Совсем. Было примерно семьдесят шекелей, я отдала их той женщине.
— Какой женщине? — Мико дернулся.
— Той русской, которую ты обокрал.
Воцарилась тишина. Потом Мико развернулся. Очень медленно развернулся. Она увидела его лицо перед собой — глубокую складку на лбу, короткие вьющиеся волосы и тонкие губы.
И тут он ее ударил. Две пощечины — одна за другой. Сначала голова Тамар дернулась вправо, затем — влево. Динка приподнялась, угрожающе зарычала. Тамар опустила руку на голову собаки. Спокойно, спокойно.
Все вокруг нее смешалось, потонуло в вязкой тишине, мир рухнул и тяжело сомкнулся. Она поняла, что они уже едут и пейзаж за окном проносится мимо. Увидела напряженную мускулистую спину Мико, изо всех сил сжала губы и напрягла мышцы живота, но слезы все равно покатились по щекам. Тамар не вытирала слезы, отрекаясь от них.
Дурочка-дурочка, ты этого хотела:
Все, что было мягкого в тебе, затвердело.
Снова и снова повторяла она про себя эти слова, они слились в единый, заполонивший всю ее звук, а потом взорвались сиреной. Снаружи ничего не было слышно, Тамар замкнулась, заперлась в себе, отбросив мир вокруг, все это нагромождение ужасов. Она сбежала. Но никто не заметил ее бегства. Она сбежала в просторную комнату, к роялю и Алине. Единственное убежище, где она могла укрыться. Маленькая Алина в сползающих с длинного носа очках, сжав руку в крошечный и решительный кулачок, приказывает направить голос в кончик большого пальца, к покрытому красным лаком ногтю.
«Ля-а!» — тянет про себя, старательно сосредоточившись, Тамар.
«Ля-а! — выводит напротив нее Алина. — Мой ноготь еще совсем не чув-ству-ет те-бя!»
«Ля-а!»
«Еще больше ре-зо-нан-са…»
И это помогает, беззвучные ноты приводят в движение прочие звуки, которые начинают струиться в ней, точно горячая кровь, успокаивают, напоминая о мире, к которому она в действительности принадлежит и где она — единое целое.
Минуту спустя Тамар почувствовала, что глаза Мико сверлят ее в зеркальце.
— Ты это слово последний раз вякнула. Врубилась? Последний раз даже подумала его в тупых мозгах своих. Ты должна Пейсаху семьдесят шекелей, это ты с ним сама разбирайся. Но еще раз такое ляпнешь — с приветом, туши свет. Родная мама не признает после того, как я с тобой поговорю.