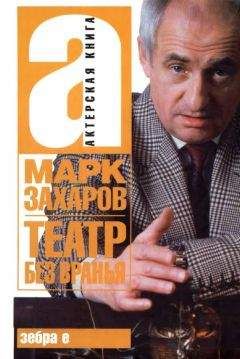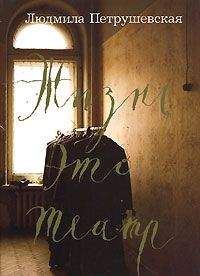Тот, кто не читал Сэлинджера: Новеллы - Котлярский Марк Ильич
Сейчас дело пахнет катастрофой.
Вмешайтесь, пока не поздно.
Верьте каждому слову моей жены.
Спешите. Иначе все кончится непоправимо.
О. Мандельштам»…
Тихонов задумался.
В это время в комнату неслышно, как кошка, зашла шаловливая жена и встала у него за спиной.
— Коленька, — сказала она, ласково коснувшись его плеча, — звонили из журнала, хотят у тебя заказать статью о творчестве Гоголя.
— А? — Тихонов вздрогнул. — При чем тут Гоголь?
— Не знаю… — жена прижалась к нему, нежно дыша в его коротко остриженный, крутой и упрямый затылок.
— Подожди… — он властно отстранил ее.
— Что такое, Коленька? — капризно спросила она.
— Гоголь, Гоголь… — задумчиво сказал Тихонов, и вдруг безо всякого перехода добавил: — А этот? Голь перекатная! А тут — Гоголь!
— Ты о чем? — непонимающе спросила жена.
— О письме Мандельштама! — недовольно буркнул Тихонов. — Тоже мне, обскурант…
— А что это значит, Коленька?
— Из письма Белинского к Гоголю, — пояснил Тихонов. — Понимаешь, после того, как классик сбрендил и выпустил в свет «Выбранные места из переписки с друзьями», Белинский, который боготворил его, написал ему резкую отповедь И там были такие знаменитые строки: «проповедник кнута, апостол невежества, поборник обскурантизма и мракобесия, что вы делаете?»…
Жена с восхищением посмотрела на своего орденоносного мужа.
…Поздно вечером Николай Тихонов тихо, чтобы не разбудить мирно сопевшую, сомлевшую от будничных дел супругу, зажег настольную лампу, сияющую мягким, неназойливым светом, взял с прикроватной тумбочки заранее припасенный томик Гоголя и открыл его на первой попавшейся странице. Шевеля серьезными губами, стал стремительно читать, пока не дошел до следующих строк:
«Нет, — сказал он сам в себе, — чей бы ты ни был дедушка, а я тебя поставлю за стекло и сделаю тебе это золотые рамки». Здесь он набросил руку на золотую кучу, лежавшую пред ним, и сердце забилось сильно от такого прикосновенья. «Что с ним сделать? — думал он, уставя на них глаза. — Теперь я обеспечен, по крайней мере, на три года, могу запереться в комнату, работать. На краски теперь у меня есть; на обед, на чай, на содержанье, на квартиру есть; мешать и надоедать мне никто не станет; куплю себе отличный манкен, закажу гипсовый торсик, сформую ножки, поставлю Венеру, накуплю гравюр с первых картин. И если проработаю три года для себя, не торопясь, не на продажу, я зашибу их всех…
Дойдя до последней строки, он почувствовал, как глаза его слипаются, а всем существом овладевает неуклонная дремота.
«…зашибу их всех!» — повторил Тихонов спрыгнувшие к нему со страницы строки и, уронив книгу на пол, погрузился в несметный сон.
Перво-наперво там, во сне, увидел он осипшего Осипа Мандельштама, шамкающего беззубым еврейским ртом. Прислушавшись, Тихонов понял, что тот читает какие-то знакомые ему стихи.
Мандельштам, изогнувшись над изголовьем притихшего Тихонова, выразительно шамкал:
«Бог мой! — испугался Тихонов, и мысль его внезапно забегала зигзагообразно, зверьком загнанная в заранее заготовленную западню, — это же он мои стихи, паскуда беззубая, читает, никто не должен знать, что я посвятил их Гумилеву, а Гумилев — враг, а за пособничество врагу могут и посадить… Но я… я же вывел на чистую воду этих бредовых братьев, этих оборотистых обериутов… я отдал свой долг сполна… бежит за волной волна… уйди, охрипший Осип… я не читал рассказов Оссиана, не пробовал старинного вина… это я читаю или Мандельштам… вина… не пробовал… но в чем моя вина? Я сплю?»-в это время изображение шелудивого Мандельштама Стало двоиться, троиться, расплываться, вытягиваться в дугу, а затем и вовсе растаяло синеватым дымком. «Домком! — мелькнуло у спящего Тихонова в тот момент, когда он увидел стоящего у кровати степенного сурового старика. — Но что он здесь делает, в неурочный час? Как попал сюда, что ему надо?»…
Тем временем неожиданный гость вперил в него немигающий тяжелый взгляд, занозой вонзающийся в самое сердце…
«В твоей власти все то, на что ты глядел дос ле завистливыми глазами, чем любовался издали, глотая слюнки!» — вдруг раздался откуда-то голос старика-домкома, то есть голос на самом деле шел откуда-то сверху, низвергался, как металлический ливень, и сие казалось странным, ибо губы стариковские не двигались, они были замкнуты, запечатаны, безмолвны.
«Тихонов Николай, слушай и запоминай, — вдруг в рифму продолжил голос, — ты проживешь долгую и счастливую жизнь. Обласканный правительством, увешанный орденами, умащенный щедрыми премиями, не будешь ты нуждаться ни в чем. Ты увидишь весь мир, объездишь множество стран, издашь множество книг. Ты сделаешься сановник. Но за все эти блага ты заплатишь своим талантом. “Но точно ли был у меня талант? — спросишь ты сам себя. — Не обманулся ли я?”… Был у тебя талант, на всем минувшем видны его приметы и следы…» Слюдянистый цвет глаз старика вызывал удивление и страх; страх как хотелось понять, каким образом мог воздействовать этот цвет, но: и тревожно, в ускоренном темпе, билось сердце, тревога овладевала всем телом; мелом на доске аскетичная учительница, учащенно дыша, — душа из нее вон! — выводила старательно тему сегодняшнего урока: «Николай Гоголь, рассказ “Портрет”, образ Чарткова как символ таланта, гибнущего от жажды наживы»… «Живы будем-не помрем!» — вдруг дурашливо завопил чей-то голос. «Тихонов, к доске!»-повелительно зазвенел голос учительницы. «Я не готов…»-хотел было прошептать Тихонов, как — вдруг! — пропала доска с учительницей, пропал старик-домком, а вместо него стоял у кровати странный господин в желтых панталонах, он все время что-то жевал, доставал постоянно из карманов медовые пряники, запивая их грушевым квасом, стоявшим подле него на небольшом столике. Был этот господин низеньким, сухощавым, с весьма длинным, заостренным, как клюв птицы, носом, с прядями белокурых волос, которые то и дело прядали ему на глаза, и он отмахивался от них, как от надоедливой мухи; под солидным сюртуком угадывался бархатный глухой жилет, а поверх всего этого покоился небрежно повязанный галстук. Что-то до боли знакомое, птичье, проскальзывало в жестах незнакомца, чьи бегающие маленькие глазки совершали непере-ставаемые круговые движения.
— Николай Васильевич, вам письмо! — вдруг прокаркал какой-то непонятный голос. И когда Николай Васильевич обернулся, Тихонов узнал его.
— Поднимите мне веки, — сказал Николай Васильевич, — и тотчас две легкокрылые бабочки, как бы резвяся и играя, подлетели к очам классика и, плеща разноцветными крыльями, подцепили его веки. И тотчас в открытую фрамугу шмыгнул шкодливым шмелем проштемпелеванный конверт, покружился и стал садиться на пол, постепенно увеличиваясь в размерах. Поначалу Тихонову показалось, что это — то самое письмо, которое прислал ему Мандельштам, но затем смог прочитать надпись «от Белинского-Гоголю». А когда конверт сделался ростом с Гоголя, у него прорезался голос.
— Бесноватый! — кричало письмо Белинского Гоголю, — проповедник кнута, апостол невежества, поборник обскурантизма и мракобесия, панегирист татарских нравов — что вы делаете?
Взгляните себе под ноги: ты стоишь над бездною…
— Помилуйте, — скривился Гоголь, — как мне нужно узнавать многое из того, что знаете вы и чего я не знаю, так и вам следует узнать хотя часть того, что знаю я и чем вы напрасно пренебрегаете.
— Что касается до меня лично, — возразило письмо, предоставляю вашей совести упиваться созерцанием божественной красоты самодержавия!
— Помыслите прежде всего о вашем здоровье! — парировал Гоголь. — Оставьте на время современные вопросы. Вы потом возвратитесь к ним с большею свежестью, стало быть, и с большею пользою как для себя, так и для них…
Письмо Белинского Гоголю и Гоголь заспорили до хрипоты; на Тихонова они не обращали внимания, но какая-то тяжелая сила словно пришпилила его к постели: он хотел двинуться, но не мог, хотел крикнуть, но губы не отверзались. Тогда Тихонов напрягся и силою закрыл глаза: будто тяжелые гири придавили ресницы, все закачалось мгновенно, цветные огни заколыхались в его зрачках, кровать затряслась, разъехались стены; стиснутый стенанием сермяжного сердца, спящий резко закусил губу и… проснулся.