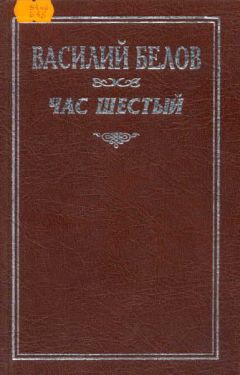Василий Белов - Час шестый
Нечаев хихикнул и ткнул Зырина в бок, дескать, все верно про выселеночек-то. Женщины перестали хлебать, слушали.
Шел Еграша из тюрьмы
К Самоварихе в примы.
Прикатил не к сроку
Будет мало проку.
Зырин прыснул в кулак, Нечаев скороговоркой остановил счетовода: «Не перебивай, а то он сойдет с рельсов!»
Вся Шибаниха жужжит,
Экая досада,
Был до бани я мужик,
После бани баба!
На этом месте рассмеялся и сам Евграф, что толку сердиться, если уже вся деревня знала, как он сидел на печи в женской рубахе.
На чужбине не зачах,
А в родном окопе
На горячих кирпичах
Стало худо жопе.
Киндя выждал, когда народ прохохочется, и добавил:
Тут приходит замполит
И Еграше говорит
Передвинься за трубу,
Не живи халатно,
Все равно твою избу
Не отдам обратно.
— Замполит-то это который — Кеша или Игнаха? — под общий хохот допытывался Иван Нечаев, а Судейкин на ходу частушкой объяснил был замполитом:
Говорит с печи Евграф:
Нет, Фотиев, ты не праф!
И за то Евграфу
Прописали штрафу.
— Ну, Киняха, ты мастер придумывать, Кеши не было, — возразил Савватей. — Ведь штрафы-ти дают сельсоветы, а не ковхозы, у ковхозов таких правов нету.
— Погоди, скоро будут.
— Пусть он поет, не останавливайте!
— Дальше-то как?
Пока шумели и всплескивали руками, Киндя устроил передышку, затем продолжил этот бесплатный «канцерт», как выразился Климов.
К полуночи на беду
Принесло Игнашку.
По народному суду
Требуют бумажку.
Это, бабоньки, во-первых,
А случилось во-вторых,
Понаехала миличия
На конях вороных.
И понесло Акиндина Судейкина дальше, люди боялись громко смеяться, чтобы не пропустить ни слова. Сдерживались, тыкали под бока друг дружку.
Комиссары чуть живые
С Акйндином маются:
Хоть свои, а хоть чужие
Подавай нам яйца!
Нету яиц, нету кок,[4]
Укатились под шесток.
Баба спрятала в полавошник,
Мышонок уволок.
Балалайка о семь струн,
Я, товарищи, килун.
Охты, старый хитрован,
Выворачивай карман!
Тут уж хохотали все подряд, и Киндя завершил на этом свой концерт. Когда начали отходить от смеха и стало потише, Таисья Клюшина спросила:
— Это какие опеть еича-то требуют?
И снова мужики принялись хохотать.
— Ой, не к добру хохочем! — сказала Самовариха. — Идите-ко со Христом печь-то бить.
И все выпростались на улицу. День склонялся к вечеру, а работы оставалось еще порядочно. Судейкин потрогал сосновую чурку и промолвил:
— Нет, братцы, посуду моют, пока не присохло, а печи бить лучше на голодное брюхо. Вишь, сытому-то охота бы и полежать.
Лежать, однако же, было некогда. Все потихоньку начали каждый свое дело.
— А чего, Киндя, легче-то? — спросил Нечаев. — Бабой по глине или стихи выдумывать?
— Ох, здоровье, Ваня, есть, дак с чуркой-то валандаться проще, — вздохнул Судейкин, залезая в опоку.
В этот момент и появилась на помочах старшая девчонка Судейкина.
— А ты, стрекоза, чего прибежала? — с лаской спросил Киндя.
— Меня предрика послал! Снеси, говорит, записку!
— Кому записку-то, мне, что ли?
— Нет, записка дяде Евграфу. Вот!
Евграф отложил свою сосновую чурку, взял записку и вслух прочитал: «Ев… Евграф Анфимович, срочно придите в контору колхоза. Надо поговорить по… по вашему личному делу. Предрик Микулин».
— Никуда не пойду! — Евграф сердито подал записку девчонке. — Мне в конторе делать нечего. Снеси обратно.
Все затихли. Бабы завздыхали.
— Нет, Анфимович, надо идти! — промолвил Нечаев. — С предриками шутки худые, хоть он и свой, шибановский. И мы ведь председателя-то выбирали не с бухты-барахты.
— Надо было и меня спросить! — рассердился еще больше Евграф. — Какой из меня председатель? Налагая, полей-ко на руки.
… Люди глядели Евграфу вслед, когда он, не торопясь, направился в сторону своего дома, то есть в контору. Мысли, одна другой отчаянней, лезли Евграфу в голову: «Нет, не дадут спокойно пожить, доконают меня, не мытьем, дак катаньем. Чего оне привязались? Начальники-то… И люди, шибановцы. Только-только в себя пришел. Микулёнку-то надо бы в глаза плюнуть да и уйти. А может, он женится? Нет, на это совсем не похоже. Пес, дак он пес и есть…»
Не торопил Евграф свои ноги, обутые в дырявые сапоги вологодского золотаря! Некуда было ему спешить… Перед самым крылечком зимней избы хотел даже повернуть обратно, но вспомнил слова Ванюхи Нечаева: «С предрикой шутки худые».
Да, так оно и есть. С властью и раньше не больно-то спорили, что скажут, то, бывало, и делай. А нынешняя власть еще собачливей… Упекут не за понюх табаку обратно в тюрьму, только тебя и видели.
Евграф с тяжелым сердцем ступил на родное крыльцо, открыл в сенях отцовские сосновые двери.
На лавках по двум углам столешницы сидело начальство: предрик Микулин и председатель колхоза Куземкин.
Евграф встал у родного порога.
— Не стой столбом, Евграф Анфимович! Проходи вперед! — сказал Куземкин. — В ногах правды нету…
Предрик молча потер пальцем сучок на столешнице. Стол на точеных ножках был крашеный, а саму столешницу никогда не красили. Бабы на Пасху до желтизны скоблили ее хлебным ножиком. Теперь она была вся в чернильных пятнах. У Евграфа что-то прихлынуло к горлу, обросшему сивой щетиной. Брился третьего дня к свадьбе племянника нечаевской бритвой, да опять наросло. Верно, в ногах правды не было. Не врет пословица, а ведь нет правды и в головах. Сидят как два сыча…
Оба начальника ждали, когда Евграф поздоровается за руку, а Евграф и садиться не собирался, не то что здороваться. Он крутил в руках записку Микулина.
— Евграф Анфимович, это я тебя вызывал, — сказал наконец Микулёнок. — Ответь на вопрос: ты почему не идешь дела принимать?
— У меня делов хватает своих. Вон помочи собраны. Люди пришли печь бить.
Куземкин взбеленился:
— Тебя поставили в председатели, а ты печь бить?
— Никуда я, Митрей Митревич, не вставал и вставать не собираюсь, ведь я не Жучок. Да и тот не вовсе свихнулся-то…
— Будешь, Евграф Анфимович, раз выбрали, голосование было единогласное! — перебил Микулин и смачно всею ладонью шлепнул по чернильной столешнице. — Сейчас же принять дела! Печать, документацию и ключи от амбаров под расписку! Где счетовод? Пусть составит акт передачи!