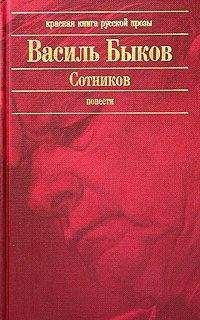Юрий Поляков - Грибной царь
Сначала, не сговариваясь, дали слово заплаканной и траурно приодетой журналистке Маслюк. Она долго рассказывала о том, что убитый федералами Ваха был настоящим героем в забытом ныне, античном смысле этого слова, то есть сочетал высокую силу духа с физическим совершенством. Затем правозащитный историк (фамилию его Свирельников забыл) объяснял, в каком неоплатном долгу Россия перед малыми народами, которые она коварно затащила в свою на столетия растянувшуюся кровавую имперскую авантюру. Он даже предложил всем участникам передачи встать на колени и от имени России попросить прощения у всех пострадавших племен. Но остальные его не поддержали в том смысле, что на коленях должны стоять виновные, а они, присутствующие в студии, как раз всегда боролись против российского гегемонизма и даже, кажется, победили…
Потом дали высказаться известному телевизионному писателю Негниючникову, автору единственного экспериментального романа «Оргазмодон», написанного с незначительным употреблением нормативной лексики и переведенного на все европейские языки. Он высказал смелое предположение, что неутолимую ненависть к русским в покойном Юннате, как ни странно, спровоцировал учитель ботаники, который непростительно травмировал мальчика ранним успехом, впоследствии не подтвердившимся. Именно поэтому Москва стала для ребенка символом обмана и вероломства.
— Хотя не исключена и более веская причина! Судя по некоторым приметам, — Негниючников заинтересованно облизнулся, — маленький Ваха подвергался со стороны Ивана Леопольдовича сексуальным домогательствам…
Действительно, подтвердил правозащитный историк, учителя нашли в квартире с перерезанным горлом, и, конечно же, не из-за денег: крупную сумму и новый телевизор взяли явно для отвода глаз. Кстати, буквально за час до убийства у подъезда видели Ваху, но доказать ничего не удалось, а в предварительное заключение он попал по причине царившего при Советах беззакония. Но тут горько обиделась журналистка Маслюк, вскинулась и объявила, что если бы Негниючников знал покойного так же близко, как она, то все эти бредни о сексуальной травме ему даже в голову бы не пришли! Телевизионный писатель виновато ухмыльнулся и взял свою гипотезу назад.
Затем состоялся телемост со Стамбулом. На экране появилась вдова Кардоева и, сверкая бесслезными от горя глазами, сказала, что ее муж погиб в борьбе за великое дело, что она воспитает сыновей-мстителей и что когда-нибудь одна из улиц освобожденной столицы Великой Ичкерии будет названа его именем. В московской студии встали и зааплодировали, дольше и громче всех хлопал Негниючников, чтобы загладить свою оплошность с версией о домогательствах ботаника. Потом участники спорили, как лучше назвать улицу: именем или прозвищем убитого. Правозащитный историк доказывал, что чаще всего увековечивают политические псевдонимы, достаточно вспомнить Сталинград и Ленинград, поэтому, конечно, улица Юнната, а лучше — проспект! Его пристыдили, что, мол, традиции Совдепии им тут не указ — и улицу, а лучше населенный пункт надо называть родовым именем погибшего повстанца!
В заключение спели любимую песню покойного: арию из рок-оперы «Юнона и Авось», которую он смотрел раз двадцать, будучи студентом. Институту культуры выделялись бесплатные пропуска на спектакли, а Ваха как раз руководил сектором досуга комитета комсомола факультета:
Ты меня на рассвете разбудишь.
Проводить, необутая, выйдешь…
Ты меня никогда забудешь,
Ты меня никогда не увидишь…
Завершающие титры шли на фоне двух чередующихся крупных планов: бесслезная мусульманская вдова в Стамбуле и рыдающая журналистка Маслюк в студии.
— Понял? — спросил Моховиковский, когда за край телеэкрана уполз последний титр. — Не, ты прикинь! Мы там эту мразь из щелей вышелушиваем, а они тут, в Москве, из них героев делают! Суки!
— А ты его сам… — спросил Михаил Дмитриевич, — кончил?
— Нет. Он же сдаться хотел. Обещал, если жизнь сохранят, рассказать, кто его в Москве крышует и спонсирует. Я доложил начальству. Прилетели вертушки и накрыли…
Захмелев, майор стал уверять, что мог бы со своим полком, если прикажут, в три дня очистить Москву от ворья, демократов и предателей.
— Ведь они, суки, что делали! Приказ мне, а копию — «чехам». Ты понимаешь? Я выдвигаюсь колонной, а они уже ждут! Херак по головной машине, херак по замыкающей… Ты понимаешь?! Мне бы Москву на три дня! Я бы такую чистоту навел, как к Олимпиаде. Помнишь?
— Помню, — кивнул Свирельников. — Да кто ж тебе такой приказ даст?
— Найдутся люди! Дожить бы…
— А без приказа?
— Без приказа? Надо подумать…
— А с нами что сделаешь?
— С кем?
— Ну, со мной?
— С тобой? — Моховиковский сначала удивился такому вопросу, а потом посмотрел на собутыльника с пытливым отчуждением и вздохнул: — Там посмотрим… Главное — дожить!
Но майор не дожил: в следующую «командировку» сгорел в бэтээре, наехавшем на мину. Свирельников помог вдове устроить похороны, поминки и дал денег на памятник. А кинжал так и хранился у него в шкафу, дожидаясь своего подарочного часа, потому что холодное оружие он коллекционировать передумал, а увлекся курительными трубками. Однажды, прослышав, что руководитель Департамента собирает ножи, директор «Сантехуюта» понял: наконец-то пробил час этого знаменитого клинка…
16
Михаил Дмитриевич зашел в лифт, и букет занял почти всю зеркальную кабину. Втиснувшийся следом чиновничек, оглядев клумбу, лукаво улыбнулся: мол, знаем, кому несете! Содержался в улыбке и еще один полууловимый оттенок, который словами грубо и приближенно можно передать примерно так: цветы начальству таскаете, а вопросик решать все равно к нам, клеркам, придете, тогда и поговорим!
Просторная приемная новорожденного руководителя празднично шумела: человек сорок выстроились в извилистую очередь к высоким полированным дверям, ожидая своего поздравительного мига. У всех в руках были букеты, корзины с цветами, коробки, перевитые лентами, а также очевидные дары, упаковке не поддающиеся. Общеизвестный клоун, открывший недавно при гостинице «Клязьма» первый в России частный театр дрессированных грызунов, прижимал к груди клетку с взволнованной белой крысой. Четыре моряка, одетые в черно-золотые парадки, покоили на плечах здоровенный макет первого русского фрегата «Штандарт», оказавшийся при внимательном рассмотрении неисчерпаемой емкостью для хранения алкоголя: вместо пушек из бортов торчали латунные краники.