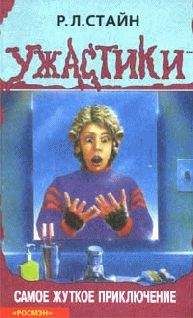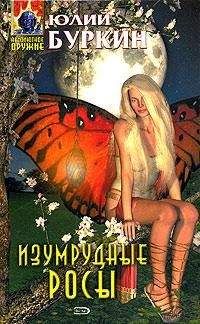Александр Рекемчук - Дочкина свадьба
Она не привыкла к этому. Не понимала этого. А непривычное, непонятное всегда злит.
— Послушайте, — сказала Татьяна, убрав руку с глаз и перекатившись на бок. — А где эта ваша… рыжая?
— Не знаю. Там. — Володя повел головой в ту сторону, где была Москва.
— А почему она больше не приезжает?
— Не знаю. — Володя пожал плечами. — Ведь были дожди.
5
Но рыжая приезжала именно в самый разгул дождей.
Они — Патрикеев, Любовь Петровна, ее дочери — сидели днем в большой комнате (хозяева, сжалившись, затопили печь), играли в карты.
Распахнулась дверь и вошла рыжая. Она вся была залита водой, с болоньи текли ручьи, ноги ее были до колен измазаны глиной.
— О… — сказал Володя, вставая. — Здравствуй. Знакомьтесь, пожалуйста.
Но рыжая не двинулась далее порога.
— Я привезла тебе… я привезла вам письмо.
Она подрагивающими пальцами отворила сумочку и достала оттуда конверт: на нем были сырые пятна.
— Вот. Из выставкома.
— Раздевайтесь, вам нужно обсохнуть, — сказала, тоже вставая, Любовь Петровна. — Чаю?
— Не надо. Я на минутку.
Володя мял конверт в руках.
— Тебе… вам отказ. — Глаза рыжей сверкнули мстительно, а с косынки ее и с волос по-прежнему обильно текла вода.
Патрикеев и сам догадался, что отказ: он как-то определил это на ощупь, пе распечатывая письма.
А рыжая знала, что там, в конверте, потому что она работала секретаршей в Союзе художников.
— Ну, что поделаешь, — попытался улыбнуться Володя Патрикеев, ощущая, как к горлу подкатывает жесткий комок.
Рыжая не удостоила его больше ни словом, ни взглядом.
Она с тихой ненавистью — медленно поворачивая голову — рассмотрела три женских лица, маячившие в этой сумрачной комнате: лицо Насти, лицо Татьяны, лицо Любови Петровны, и опять — Татьяна… Которая же?
«Холодно, холодно… — аукнулось детское в памяти Патрикеева. — Тепло, тепло… горячо… холодно, холодно…»
Но тут же он догадался, что рыжая рассматривала эти лица, не отделяя их друг от друга — так, будто это были не три лица, а одно лицо. То есть точно так же, как для него самого они сливались порой в лицо одной женщины, одной вечной женственности. И рыжая это поняла. Она была умная. Резко повернулась, толкнула дверь и ушла в шумящий дождь.
Рыжая.
6
— Таня… Владимир Кириллович…
На вершине косогора стояла Любовь Петровна.
— Идите обедать.
— Обедать? — Татьяна приподнялась и встала на колени. — Мама, я ведь еще не купалась… Погоди. Я сейчас. Я быстро.
Она разбежалась и рухнула в воду.
— А вы?
— Я?.. — переспросил Патрикеев.
Сейчас, когда Татьяна ушла в воду, они были здесь вдвоем — и вдруг это подчеркнуто-вежливое «А вы?» Как знак отчуждения. И хуже того: как «Иду на вы!»
Но почему?
Ах, да: вон уже канули за черту горизонта пласты дождевых туч. И небо осталось совсем чистым — в нем нет ничего, ни следа. Замечательное и пустое безоблачное небо.
Она смотрела на Володю сверху, ожидая ответа на свой вопрос: пойдет ли он обедать?
— Может быть, я позже? — растерянно сказал Патрикеев. — У меня вот… — Он потянул веревку, вытащил кукан, покрутил его на солнце — блеснула рыбья чешуя. — Ни то ни се. Я доловлю…
Любовь Петровна перевела взгляд на озеро.
Патрикеев тоже посмотрел туда. Татьяны не было. Она, как обычно, занырнула в глубину и плавала там. Володю всегда поражало, сколько времени она могла находиться под водой — что за русалочьи легкие надо иметь для этого!
Он опять обернулся на косогор. Ладно, пусть она еще раз просто позовет его обедать — и он смотает удочки: черт с ней, с рыбой, всю не выловишь… Ну, пожалуйста.
А Татьяна все не появлялась. Она исчезла. Ни бороздки не было на озерной глади. Куда же она делась?
И сейчас, когда исчезла Татьяна, ему вдруг почудилось, что это именно она стоит там наверху — в голубом сарафане, заложив руки за спину, возвысив подбородок, молча.
7
После ужина, после грибов, Патрикеев взял треногу, складной стул, этюдник и отправился на берег.
Точку зрения он облюбовал давно. Он нашел ее даже не этим, а прошлым летом — когда бродяжничал здесь с рюкзаком за плечами и случайно вышел на крутизну и увидел ледниковое озеро. Вот тогда-то он и решил, переждав год, обосноваться здесь, снять комнату на весь сезон и — день за днем — писать это озеро.
Однако в июне работа не ладилась: он устал от поденщины — целую зиму расписывал павильон птицеводства, у него разболелись глаза от белизны кур-леггорнов, от белых уток и белых гусей, от стерильно-белых халатов птичниц. Белое, белое… Непонятно даже, куда подевались нынче курицы-пеструхи и бедовой, разбойничьей окраски петухи, которых он видывал прежде?
Весь июнь он бездельничал. А потом хлынули дожди.
Зато сейчас Володя Патрикеев твердо знал, чего хочет.
Он не спешил. Только что миновала пора летнего солнцестояния и до заката еще оставалось часа полтора. Ему же требовался закат.
От рыболовной базы одна за другой отчаливали лодки. Они выходили на середину озера, сбивались в табунки, а иные, наоборот, жались к дальним берегам, становились на омута, но тоже кучно. И лишь некоторые бросали якоря в гордом одиночестве, там, где по незнанию приглянулось место — это были новички.
А лодок много, очень много. Сильно истосковался народец по делу за эти смурые недели. Впрочем, находились и такие, что всю непогодь отважно высидели над поплавками — в сплошной воде, которая била сверху, косила с боков, барабанила в спину, резала лицо, а внизу тоже была иссеченная, пузырчатая, неуютная вода, и так день, и так ночь, и хоть бы что, — а вот поди, заставь их же, грешных, при сходных обстоятельствах заняться какой-нибудь другой полезной работой…
Володя следил за передвижением лодок, стоя на горе, как наблюдает полководец перестроение своих войск за час до решающей битвы. Будь у него адъютанты, он отсылал бы их сейчас на взмыленных конях с приказами: «Там занять позицию левей… там выдвинуться вперед, а там отойти…»
Он уточнял композицию.
Из деревни доносились гулкие удары. Это дачники, наконец-то дождавшиеся ясных дней, играли в волейбол. Володя представил себе, как Татьяна Романова — вытянувшись струной в прыжке — гасит мяч.
Ну, пора.
Он выдавил из тюбика на палитру умбру жженую и, ловко орудуя кистью, запечатлел на картоне все, что было темным, что уже теряло оттенки и сливалось цветом в наступающих сумерках: лодки, согбенные фигуры рыбаков, дощатые мостки причалов, дальний лес.
Сейчас должно случиться чудо.
Солнце минует черту горизонта и скроется: доброе и спокойное солнце, не предвещающее никаких перемен погоды, не сулящее ни дождя, ни ветра — и потому закат будет золотым.
Небо во весь свой видимый отсюда простор вдруг озолотится, и ни пятнышка, ни хмари не окажется на нем в этот торжественный час.
И тем же чистым золотом наполнится чаша озера. Золото будет расплавленным, но не кипящим, как в тигле, а уже застывающим. Оно будет основательным, тяжелым, как и подобает золоту. И поэтому свет окажется плотнее тени. То есть, вода и небо станут более осязаемыми, чем твердь — и это будет сплошь и всюду единый, вещественный, вечный, надежный, счастливый мир!
Вот что видел и хотел написать Володя Патрикеев.
Он, торопясь, задыхаясь, бросал на картон вязкую смесь лимонного и оранжевого кадмия, белил и охры, решительно закрашивал поверхность и осторожно снимал мастихином волнистый излишек краски.
— Эй, Па-атрик!..
Дребезжа, промчался велосипед, нырнул в ложбину, вынырнул снова, куда-то опять скатился и опять взлетел — в седле была Настя, чертенок в тельняшке, а за нею, тоже на громыхающем велосипеде, гнался соседский мальчишка, ее ровесник, — и Володя успел подумать, что в этом возрасте он еще не рисковал гоняться за девчонками. Да и не было у него в детстве велосипеда.
Теперь и небо, и вода быстро меркли, чудо шло на убыль, прекращалось. Много ли времени может длиться чудо?..
Зажглась вечерняя звезда.
В деревне уже не слышно было ударов по мячу. Зато доносилась транзисторная музыка. Волейбол кончился, начались танцы — дачная жизнь входила в свою обычную колею. Патрикеев представил себе, как там шейкует Татьяна: темпераментно и жгуче, но достойно — у нее, он давно заметил, было развито ощущение собственного тела, она сознавала, что ей, высокой и крупной девушке, не гоже разбрасываться движениями, распахиваться и, в то же время, она не позволяла себе мелочиться, юлить, как всякие там вертлявые дурашки. Она хорошо танцевала, достойно.
Вот так же достойно, как идет эта женщина.
Тропинкой, поблизости, шли вдоль озера три женщины, уже накинувшие от прохлады кофточки на плечи, неслышно ступая и так же неслышно беседуя. О чем? О хозяйских, вероятно, нелегких заботах; о детях, наверное — о сыновьях, о дочерях; может быть, о погоде — скорей всего о погоде.