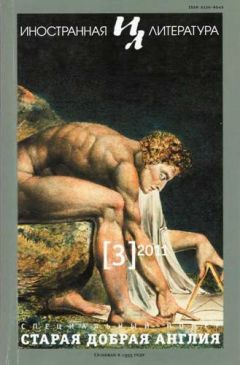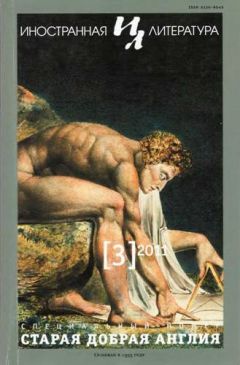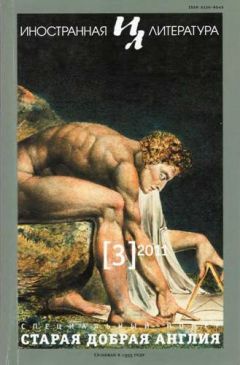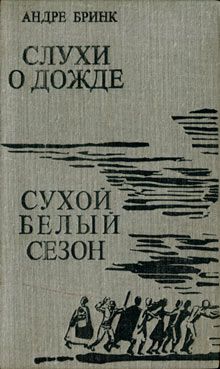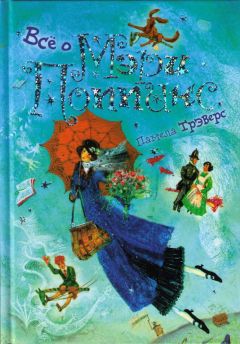Андре Бринк - Сухой белый сезон
Бессмысленные рассуждения. Столь же бессмысленные, как и мои размышления о том, мог ли я изменить ход событий.
Правда, был один странный вечер во время суда над «террористами» в тысяча девятьсот семьдесят третьем году (когда, как выяснилось потом, он защищал своих же сообщников и подчиненных). Я не понял тогда, что в нашей беседе прозвучало нечто особенное, а он объяснил мне все лишь гораздо позже, слишком поздно.
Во время своей болезни в детстве — в ту ночь с абажуром, позвякивающим о стену, и словами врача «кризис миновал» — я тоже не подозревал, в какой опасности находился. А когда понял, все было позади. Наверное, так бывает всегда. В таком случае и ночь семьдесят третьего года тоже можно назвать кризисной.
То, что случилось, было предопределено цепочкой совершенно незначительных обстоятельств. Например, все было бы иначе, если бы Бернард жил у нас, как он обычно и делал. Но в это время у нас гостили родители Элизы. Хватило бы места и для него, но он не хотел никого стеснять, и поэтому я поселил его в своей городской квартирке.
Или же — если бы в ту роковую ночь я не пошел на день рождения к тетушке Ринни. Или — если бы Бернард пошел со мной, как и собирался вначале. Или — если бы там не оказалось Беа. Столько всяких «или» и «если».
Это было вскоре после начала суда, и виделись мы не часто. В тот понедельник я до вечера задержался в конторе (у меня шла ревизия), устал и был не в настроении сразу отправляться на вечеринку. Итак, я решил сперва заглянуть к Бернарду и распить с ним по рюмочке. Может быть, мне удастся уговорить его поехать со мной. Он хорошо относился к этой старушке еще с тех пор, как на последнем курсе я снимал комнату в ее доме восемнадцатого столетия на Дорп-стрит. Тетушка Ринни была не только родом, но и корнями из Стелленбоса: пять поколений ее предков жили в том же доме, никто не мог даже представить себе, что она уедет оттуда. Но обе ее дочери обосновались в Йоханнесбурге, и, чтобы быть поближе к внукам, ей пришлось продать старый дом и переехать на север. В небольшой квартирке одного из старинных зданий в Парктауне она всеми силами старалась занять себя тем, что называла жизнью: музыкой, людьми, шутками, стихами. Медленно дряхлея в тоске по горам, по дубам, по шуму воды в каналах и смеху молодежи, она пыталась организовать нечто вроде салона. Пожалуй, не было случая, чтобы, придя к ней, я не застал там кого-то совершенно незнакомого: кого-нибудь из людей, которых она подцепляла в автобусе, в музее, на выставке или в ресторане и приводила к себе, чтобы окружить заботой и вниманием. Скромная и деликатная, она порой бывала чрезвычайно требовательной. Она обожала сводничать и женить друг на друге своих молодых друзей. Бернард был единственным, кто не поддавался, хотя его искушали сильней, чем кого бы то ни было.
Апогеем ее светской жизни было ежегодное торжество в апреле по случаю дня рождения. Все друзья и знакомые собирались в ее небольшой квартирке, чтобы повеселиться, попьянствовать, и побуянить до рассвета, и на протяжении всей этой оргии она неизменно восседала в центре комнаты с тщательно уложенными седыми волосами, с жемчугами в ушах и на жилистой шее, глядя на гостей живыми и яркими, как васильки, глазами и читая им время от времени какие-нибудь стихи.
Именно в такой день я и поехал вечером к себе на квартиру, чтобы повидать Бернарда. Тихая и мирная квартира в современном здании, обставленная по моему вкусу, где по ночам можно было лежать на широкой, двуспальной кровати и слушать шелест платановых листьев за окном. Город чувствовался и здесь — со своим движением, динамикой, трепещущим присутствием на пороге сознания, — но не как угроза или назойливое вторжение, а родной и близкий, будто сама жизнь.
Когда я позвонил, Бернард только что принял душ и вышел ко мне голый, с полотенцем, обмотанным вокруг бедер.
— Я не вовремя? Ты куда-нибудь собираешься?
— Да нет. Заходи.
По пути в спальню он снял полотенце и стал вытираться им. Я, помнится, подумал, что хотя он на пять лет старше меня, но сохранился лучше.
— Как тебе удается поддерживать форму? — спросил я не без зависти.
— Играю в теннис. Раз в неделю хожу в гимнастический зал. Вот и все, — Он бросил полотенце и начал одеваться. — Если не следить за своим механизмом, — добавил он со знакомой мне улыбкой, — можно потерять самоуважение и уважение других, так ведь?
— Я заехал пригласить тебя на вечеринку.
— Хорошо. Куда?
— К тетушке Ринни на день рождения.
— О господи, я и забыл.
— Она знает, что ты в городе, и требует, чтобы я тебя привел.
— Наверное, нашла для меня несравненную невесту.
— Откуда ты знаешь?
— Она каждый год находит девушку, «самой судьбой предназначенную для меня». Бедная старушка, я ее уже столько раз разочаровывал, но она не отчаивается, — Взяв башмаки и носки, он направился к двери. — Давай сперва выпьем. Время у нас еще есть.
— Безусловно, есть. Не стоит появляться там раньше восьми. Все равно гости не разойдутся до утра.
— Сам нальешь или я? — Он стоял возле старинного шкафчика, который я приспособил под бар.
— Наливай. Ты же здесь дома.
— Богатый выбор. — Он открыл бутылку. — Ты просто Гарун-аль-Рашид.
— Пока не совсем.
— Ну, не скромничай. Ты заставляешь своих девиц рассказывать сказки?
— Нет, обычно я сам плету всякие байки.
Он передал мне стакан с виски и сел на стул, все еще босой.
— За твое.
— За твое.
— Я хотел бы, чтобы ты снова начал рассказывать сказки, — неожиданно сказал он. — Я еще помню ту вещь, которую ты показал мне много лет назад.
— Ты же спустил ее в унитаз.
— Ну и что? Все равно у тебя есть талант.
— Но теперь, когда я стал солидным человеком — как это говорится, — я оставил детские забавы.
— Детские забавы вроде веры, надежды, любви?
— Нет, о любви я пока еще не забыл.
— Я не говорю о твоих шлюхах.
— Что это ты сегодня изображаешь из себя такого проповедника? Можно подумать, что не у меня тесть священник, а у тебя.
Не смейся над ним, он хороший человек.
— Грустишь? — спросил я с наигранной легкостью. — О прошлогоднем снеге?
— Нет, не о снеге. Скорее, о засухе. — Внезапно он стал очень серьезен. — Эти дивные, ужасающие засухи, когда поля обнажены до самой кости земной. Как овечий скелет. Пока не достигнешь предела отчаяния и страха и не очутишься в тишине, какой до тех пор не ведал. Я хорошо помню это ясное и чистое чувство. И только тогда, помнится, начинал идти дождь.
— Ты сегодня сентиментально настроен.
— Да, пожалуй.
За окном смеркалось. В комнате становилось темно, очертания мебели и картин на стенах расплывались. Ни один из нас не пошевелился, чтобы зажечь свет. Спустя некоторое время Бернард поднялся, наполнил наши стаканы, потом подошел к проигрывателю и включил его. Пластинка там уже стояла. Разумеется, Моцарт.
Мы вновь вступили в одну из наших безмолвных бесед, когда слова заменяются музыкальными метафорами, ясными и точными звуками рояля, не страшащимися изрекать простейшие из истин.
Минувших лет как не бывало. Я отбросил на время заботы солидного человека. Очищенный музыкой, я испытывал чувство, подобное тому, о котором недавно говорил Бернард, упомянув о засухе. Музыка действовала более мягко и деликатно, но в конечном счете не менее неумолимо. Она возвращала к вере, надежде, любви, к истине о солнце и камне в той стране, где дождь — это не более чем слух или символ бренности. Те каникулы на ферме. Элиза. («Никогда не видел девушек?») Ночи в комнате, во тьме, пропитанной запахом воска после того, как мы гасили свечи, и защищенной от звуков, просачивающихся с улицы: кваканья, стрекота, уханья, пофыркивания или лая пса, жуткого воя и смеха шакалов, голосов из хижин, шума ветряных мельниц и скрипа цепей на ветру.
— Извини, — сказал Бернард, когда музыка кончилась. — По-видимому, дело, в котором я участвую, угнетает меня.
— Не понимаю, зачем ты ввязываешься в дела такого рода.
— Какого?
— Защищаешь людей, таких как эти.
— А что ты знаешь о «людях таких как эти»?
— Зато я хорошо знаю тебя.
— Ой ли? — Он поглядел на меня из полутьмы.
— Даже слишком хорошо, — настаивал я. — Я знаю, что ты стараешься освободиться от бремени африканер-ства, но это тебе никак не удается.
— Думаешь?
— Ты ведь движим именно этими мотивами.
— Что ты имеешь в виду?
— Видишь ли, ты часто говорил о «мазохистском экстазе» африканерства, о способности африканера вдохновляться чувством собственного героизма в одиночном противостоянии всему миру. Но разве тебе самому это не свойственно? Ты одиночкой выступаешь против миропорядка, в котором существуешь. Тот же самый «экстаз». И тот же «мазохизм». Твоя позиция предопределена той самой группой людей, с которой ты стремишься порвать. И своими действиями ты лишь доказываешь свою связь с тем, от чего стремишься убежать.