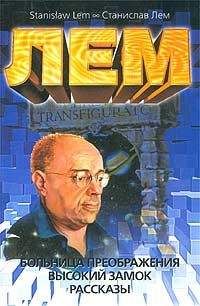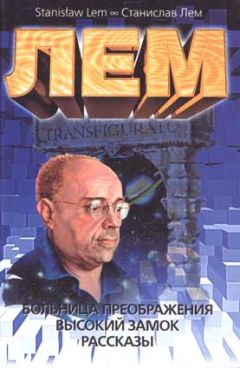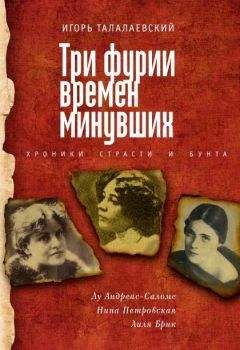Станислав Лем - Больница Преображения
— Вы что, не видите, я же пишу! Хорошенькое дело, опять мне надо «занимать позицию»?! Каждый делает, что умеет. Поэт — такой человек, который умеет красиво быть несчастным. Неужели вы полагаете, что после этой войны все лесные ахиллесы станут катонами? Фурии были не лучше вас, но их я понимаю, они хоть женщины по крайней мере! Да оставьте вы наконец меня в покое!
Стефан ушел как побитый. «Поделом мне!» — думал он, идя по коридору. Он готов был пожертвовать чем угодно, лишь бы заглянуть на подстанцию. Стефан понимал, что раз электричество в лечебнице есть, значит, кто-то должен быть и на подстанции; кто-то там работает — вместо Воха; может, этот кто-то знает?..
Пытаясь укрыться от собственных мыслей, Стефан забрел в дальний угол мужского корпуса. Его внимание привлекли красноватые пятна на полу, но, приглядевшись, он понял, что это не кровь.
Молоденький шизофреник лепил что-то из глины. Стефан долго наблюдал за его работой. Лицо юноши оставалось бесстрастным. Желтоватое и слегка перекошенное, маленькое, с резко очерченным профилем, оно походило на живую маску. Порой он прикрывал глаза и застывал — даже ресницы не вздрагивали, затем задирал голову и водил кончиками хищных пальцев по поверхности глины. Какое-то умиротворение чувствовалось в опущенных уголках его рта. Призраки больше не преследовали его, фразы разваливались у него во рту, он уже не в состоянии был достучаться до окружающих: ушел от всего. Высшая степень безразличия, какая воцаряется лишь в толпе и у людей, потерявших сознание, давала юноше возможность оставаться один на один со своей работой, — казалось, он заперт в келье. На круглом столике из плоского кружочка глины поднимался перед ним высококрылый ангел. В перьях, раздвинутых очень широко, как у задушенной птицы, чудилось, притаился ужас. Лицо ангела — готически вытянутое, прекрасное, спокойное. Низко опущенными руками — словно это вызывало у него самого отвращение — он сдавливал горло младенца.
— Что это? Как ты это назвал? — спросил юношу Стефан.
Тот молча растирал глину кончиком большого пальца. Из угла отозвался санитар, Юзеф-старший: больные обязаны отвечать докторам.
— Отвечай сейчас же, раз господин доктор спрашивает, — напомнил он, тяжело шагнув к юноше.
Юзеф не обходил больных стороной, это они уступали ему дорогу. Парень не шелохнулся.
— Я знаю, что ты можешь. Говори сейчас же, а не то эту твою куклу!.. — Он замахнулся, будто собираясь сбросить фигуру. Парень опять не шелохнулся.
— Ну-ну, — смутившись, вмешался Стефан, — не надо. Вы бы, Юзеф, сходили в дежурку и принесли бы поднос со шприцами и две ампулки скофеталя, сестра вам даст.
Ему хотелось как-то вознаградить паренька за унижение.
— Знаешь, очень красиво, — сказал Стефан, — очень красиво и странно.
Больной ссутулился, волосы прилипли к его вспотевшему лбу, под нижней губой разрасталась какая-то тень — тень презрения.
— Я этого не понимаю, но, может, когда-нибудь ты мне растолкуешь? — сказал Стефан, забыв о психиатрии.
Парень тупо уставился на перемазанные глиной пальцы.
Совсем растерявшись, Стефан неожиданно для себя самым обыденным образом протянул юноше руку.
Тот вроде бы испугался: отдернул ладонь и отступил за столик. Стефан смущенно посмотрел по сторонам — нет ли кого, кроме больных, в палате. Но тут парень стремительно и неловко перегнулся через столик, едва не свалив скульптуру, и схватил руку Тшинецкого. Не пожав, отпустил, словно его обожгло. Потом повернулся к фигурке, уже не обращая на врача внимания.
Наутро Юзеф сообщил зашедшему в палату Стефану:
— Эта глина, господин доктор, знаете, как называется?
— Что? Ах да! Ну? Ну?
— Ангел-душитель.
— Как?
Юзеф повторил.
— Любопытно, — протянул Стефан.
— Чего уж тут любопытного. Он, подлец, кусается. — Юзеф показал красные отметины на своей огромной ручище.
Стефан удивился, он ведь знал обо всех испытанных приемах санитаров: лучше сломать больному руку, чем дать ему себя поцарапать, — таков был их девиз. Малый, вероятно, порядочно «навыкобенивал». Но видно, и получил сполна. Хотя санитаров тысячи раз учили и предупреждали, они тайком, когда врачи не видели, брали реванш и пациента, который им докучал, били мстительно, наверняка, по-мужицки, как побольнее, с умом. Колошматили через одеяло или в ванной, чтобы следов не оставалось. Стефан об этом знал и хотел строго-настрого запретить избивать паренька, но не мог: официально побои запрещены, а вмешиваться в «способы» санитаров было не в его власти.
— Видите ли... этот парень...
— С этим ангелом, что ли?
— Да... так вы... присматривайте за ним, чтобы никакой ему обиды...
Юзеф оскорбился. Он за всеми присматривает. Тогда Стефан вытащил из кармана кулак; в нем была зажата бумажка в пятьдесят злотых. Юзеф помягчал. Он понимает. Он и раньше присматривал, но теперь-то уж как за родным...
Они стояли в дверях палаты. Вокруг ходили больные, но все было так, будто они в полном одиночестве. Пока Юзеф незаметно прятал сложенную купюру, Стефан, задохнувшись от собственной решимости, изменившимся голосом проговорил:
— А вы, Юзеф, случайно не знаете, что стало с тем — ну, которого немцы прошлой ночью арестовали?.. Вы знаете...
Взгляды их встретились. У Стефана сердце готово было выскочить из груди. А Юзеф, казалось, еще ждал чего-то. В глазах промелькнула искорка любопытства, тут же затушенная ухмылкой ревностного служаки.
— Это который без уха, что на электричестве работает, Вох? Вы его знаете, господин доктор?
— Знал, — сказал Стефан, чувствуя, что отдает себя в его руки. Разговор этот отнял у него столько сил, что даже голова закружилась.
Глуповато-хитрая физиономия Юзефа расплывалась все более откровенной, все более слащавой ухмылкой. Его воловьи глаза округлились.
— Вы, господин доктор, его знали? Говорят, сам он этого в той яме при электричестве не держал, это крестник его, Антек. Ну, кто его знает? Ох, уж и конбинатор был, конбинатор! — повторил он, будто любуясь этим словом. — С немцами пил, делишки с ними разные обделывал, уж с человеком и слова сказать не хотел, такой важный! Думал, купил он немца-то, а немец хитрый, пришел ночью и, как курицу, схватил! Сегодня на машине туда с Овсяного приезжали, два раза туда-обратно мотались — столько этого было! Под щебенкой все запрятано, в ящиках запаковано, что тебе товар!
— Вы, Юзеф, видели?
— Сам не видал. Где там? Люди видали. И видали, и ведали, а Вох с этим не считался. Ума палата! Ну, вот тебе и конбинатор.
— А с ним что?
— Почем я знаю? Вы рудзянский карьер знаете? Где раньше пруд был? Как вдоль дороги идти — через лес и направо... Там суют лопату в руки — яму копать, и над этой ямой ставят. Потом мужика на дороге изловят, чтобы, значит, закопал. Сами, вишь, не мараются...
Стефан, хотя и догадывался о чем-то подобном, больше того — уверен был, что иначе и не могло быть, ощутил такую ярость, такую ненависть к Юзефу, что пришлось прикрыть глаза.
— А те? — глухо спросил он.
— Пощчики, что ли? Камень в воду. Ничего неизвестно. Наверное, к лесным подались. И куда это такому старому по болотам-колдобинам корячиться? Все от того, что пригляду не было, да от глупости. Ихнее, что ли, дело-то эта амуниция, или как там ее? — понизив голос, закончил Юзеф.
Стефан кивнул, резко повернулся и пошел к себе. Осторожно вытряхнул на ладонь таблетку люминала, затем, подумав, еще одну, проглотил обе, запив водой, и как был в белом халате, наброшенном на ночное белье, повалился на кровать.
Поздним вечером из глубокого сна его вырвал стук: с телеграммой в руках Юзеф барабанил в дверь. Тетка Скочинская сообщала, что отец тяжело заболел. Звала срочно приехать.
Стефан попросил Сташека подежурить в его отделении и без труда получил у Паенчковского отпуск на несколько дней.
— Все еще уладится, — покашливая, тряс руку Тшинецкому адъюнкт, — а поскольку вы уж туда едете, может, разузнаете, как там немцы?
— Простите?
— Осмотритесь там, что слышно... Такие дурные вести оттуда доходят...
— Что вы имеете в виду, господин адъюнкт?
— Э-э, да ничего особенного, ничего особенного, коллега.
Когда Стефан зашел к Секуловскому — вроде как попрощаться, — поэт был поглощен писанием: волосы всклокочены, казалось, они источают электричество. Зрачки подергивались; это означало, что он все глубже уходит в себя. Его громкий, металлического оттенка голос гремел на весь коридор; входя в комнату, Стефан услышал:
Сердце мое, ты — красных термитов планета,
Паникующих в поисках собственных троп.
Дев и столпников путь темнокудрый — я, как монета,
Тускнею. Я гасну. Плоть теснит меня в гроб.
Ночь, ты бесстыдно срываешь последний покров,
Когда смерть, кровавобедрая дива, лицо мое
Нежно ласкает: о, мой покинутый кров...
Стефан прикрыл за собой дверь, и поэт умолк. Тшинецкий рассказал о маленьком скульпторе.