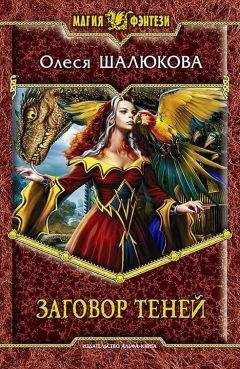Мэри Шеффер - Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков
С любовью, Амелия
Джулиет — Амелии
23 июля 1946 года
Дорогая Амелия!
Простите ради бога, не могу! У меня гость.
С любовью, Джулиет
Р.S. Кит доставит записку в расчете на пирожок. Ничего, если днем она побудет у вас?
Джулиет — Софи
24 июля 1946 года
Дорогая Софи!
Это письмо придется сжечь вместе с предыдущим. Я окончательно и бесповоротно отказала Марку, и восторг мой по этому поводу воистину неприличен. Благовоспитанная барышня сидела бы при опущенных шторах и страдала как положено, а у меня не получается. Свобода! Я проснулась игривая как овечка, и мы с Кит все утро носились по полю взапуски. Кит победила, но лишь за счет того, что она страшная жухала.
Вчера зато был кошмар. Ты в курсе, как я восприняла появление Марка, но наутро положение ухудшилось. Марк явился в семь утра, лучась уверенностью в себе и в том, что к полудню мы назначим день свадьбы. Его ни в малейшей степени не интересовали Гернси, оккупация, Элизабет, и то, чем я занималась с момента приезда, — об этом он ни разу не спросил. Потом к завтраку спустилась Кит. Марк удивился: накануне вечером он её толком не заметил. Он был с ней весьма мил — они поговорили о собаках, — но минут через пять стало очевидно: он ждет, когда она куда-нибудь денется. Полагаю, в его мире няня уводит детей в детскую раньше, чем те начнут раздражать родителей. Я, упорно ничего не замечая, стала, как обычно, кормить Кит завтраком, но от недовольства Марка воздух в комнате загустел.
Наконец Кит ушла на улицу играть, и, едва за ней затворилась дверь, Марк заявил:
— До чего же твои новые друзья хитрые — не прошло двух месяцев, а они уже перевалили на тебя собственные обязанности.
И жалостливо покачал головой: бестолковая.
Я молча уставилась на него.
— Кит милая девочка, но тебе, Джулиет, она чужая, и ты должна твердо об этом помнить. Купи ей красивую куклу или еще что и беги, пока все не решили, что ты обязана заботиться о ней до конца дней.
Я так рассвирепела, что потеряла дар речи. Стояла, впившись побелевшими пальцами в тарелку, из которой ела кашу Кит. Чуть не швырнула в него, но сдержалась. Наконец совладала с голосом и шепотом процедила:
— Убирайся.
— Извини?
— Не желаю тебя больше видеть. Никогда.
— Джулиет? — Он искренне не понимал, о чем я.
Я растолковала. С каждой минутой чувствуя себя все лучше и лучше, объяснила, что никогда не выйду замуж за человека, который не любит Кит, Гернси и Чарльза Лэма.
— Чарльз Лэм-то тут при чем? — взвизгнул Марк (естественно).
Я решила его не просвещать. Марк пробовал спорить, уговаривать, целовать меня, затем снова спорить, но — все было кончено, и даже он понял. Впервые за миллион лет — с самого февраля, когда мы познакомились, — я впервые нисколько не сомневалась, что поступаю правильно. Как я могла думать о браке с ним? Один год в роли его жены — и я бы превратилась в смиренную идиотку из тех, что испуганно смотрят на мужа, когда к ним обращаются с вопросом. Всегда таких презирала, но теперь понимаю, как легко до этого дойти.
Через два часа Марк уже ехал на летное поле, не собираясь (надеюсь) возвращаться. А я с целехоньким, до неприличия не разбитым сердцем — пожирала малиновый пирог у Амелии. Ночью проспала сном праведника десять благословенных часов, и сегодня опять чувствую себя на тридцать два, а не на сто.
Днем мы с Кит идем на море искать агаты. Какой прекрасный, прекрасный, прекрасный день!
С любовью, Джулиет
P.S. Все это никак не связано с Доуси. Чарльз просто сорвался с языка. Случайно. Доуси даже не зашел попрощаться перед отъездом. Чем больше думаю о том, что между нами произошло, тем сильнее убеждаюсь: на утесе он повернулся ко мне затем, чтобы попросить у меня ещё и зонтик.
Джулиет — Сидни
27 июля 1946 года
Дорогой Сидни!
Я знала, что Элизабет взяли за укрывательство рабочего «Организации Тодта», но до недавнего времени понятия не имела о ее сообщнике. Несколько дней назад Эбен Рамси вдруг упомянул некого Питера Сойера, «который был арестован вместе с Элизабет».
— ЧТО?! — завопила я, и Эбен объявил, что разрешил Питеру все мне поведать.
Питер сейчас живет в доме престарелых в Вейле. Я позвонила туда. И услышала, что он будет очень рад меня видеть — особенно если я захвачу «капельку бренди».
— Всегда со мной! — воскликнула я.
— Отлично. Приходите завтра. — И он повесил трубку.
Питер — инвалид, но до чего лихо водит коляску! Носится как сумасшедший, срезает углы и способен развернуться на пятачке в шесть пенсов. Мы вышли на улицу, сели под деревом, и он стал попивать бренди и рассказывать. И на сей раз, Сидни, я записывала — не могла упустить ни словечка.
Питер уже был инвалидом, но еще жил дома в Сент-Сэмпсоне, когда нашел рабочего «Организации Тодта» Люда Яруцки, шестнадцатилетнего мальчика из Польши.
Многих рабочих выпускали из бараков после темноты искать еду — при условии, разумеется, что к утру они вернутся обратно, иначе за ними начиналась охота. Только с помощью такого «временного освобождения» немцы и могли прокормить рабочих, не особенно тратя на них продовольствие.
Почти все жители острова держали огороды, а некоторые еще курятники и крольчатники. Богатая пожива для воров. Кем и были рабочие «Тодта» — ворами. Большинство гернсийцев ночам стояли в дозоре, с палками и жердями защищали свои овощи.
Питер тоже караулил ночью курятник. Без жерди, но с большой железной сковородой на длинной ручке и металлической ложкой, своеобразным набатом для созыва соседей.
Однажды ночью он услышал — а затем увидел, — как Люд прокрался в просвет его живой изгороди. Питер ждал. Мальчик зашатался, упал, попытался подняться, не смог и остался лежать. Питер в коляске подъехал и уставился на него.
«Совсем ребенок, Джулиет. Обыкновенный ребенок. Лежал лицом в грязь. Тощий — не передать, кожа да кости, весь грязный, в каких-то тряпках! Вши так и лезли из волос на лицо, на веки. Бедолага их не чувствовал — валялся как мёртвый. И надо-то ему было одну чертову картошину, а сил не хватило выкопать. Подумайте, доводить до такого детей!
Как же я ненавидел этих немцев — всем сердцем! Я не мог наклониться проверить, дышит ли он, но снял ноги с педалей кресла и начал толкать его, и толкал, и толкал, пока не повернул к себе плечами. Руки-то у меня сильные. Втащил к себе на колени наполовину, кое-как завез на кухню, а там осторожно сгрузил на пол. Развел огонь, принёс одеяло, нагрел воды, вымыл бедолаге лицо, руки, поснимал и утопил вшей и гнид».
Питер не решился просить соседей о помощи — те могли на него донести. Немецкий комендант объявил, что за укрывательство рабочих «Организации Тодта» грозит концлагерь или расстрел на месте.
На следующий день он ждал Элизабет — она как медсестра приходила раз в неделю, иногда чаще. Он неплохо ее знал и был уверен, что она поможет выходить мальчика и никому ничего не скажет.
«Она пришла не очень рано утром. Я встретил ее у двери, говорю: в доме — неприятности, не хочешь, не заходи. Она поняла, что имеется в виду, кивнула и вошла без лишних разговоров. Опустилась возле Люда на колени, крепко сжав рот — попахивало от него будь-будь, — и мигом взялась за дело. Разрезала одежду, сожгла. Вымыла парня, голову вымыла дегтярным мылом, что вокруг творилось, не представляете, но мы смеялись. То ли от нашего смеха, то ли от холодной воды Люд очнулся. Испугался — пока не дотумкал, кто мы. Элизабет разговаривала с ним ласково. Он, конечно, ни черта не понимал, но успокоился. Мы оттащили его в мою спальню, потому что оставлять на кухне было нельзя, соседи могли увидеть. Потом Элизабет долго его выхаживала. Без лекарств, откуда их взять, зато раздобыла на черном рынке суповые кости для бульона и настоящий хлеб. Ещё яйца от моих кур. И вот мало-помалу мальчишка стал набираться сил. Спал много. Иногда Элизабет приходила уже по темноте, но до комендантского часа. Не хотела, чтобы видели, как часто она меня навещает. Люди тогда, знаете, доносили на соседей — выслуживались перед немцами за всякие выгоды, харчи какие-никакие и прочее.
И все же кто-то донес фельдполицаю — не знаю кто. Во вторник вечером пришли немцы. Элизабет купила курятину, потушила, кормила Люда. Я сидел у его кровати.
Дом по-тихому окружили, потом ворвались. Ну и… взяли нас с потрохами. С мальчиком не знаю, что сделали. Суда не было, нас назавтра же сунули на корабль до Сен-Мало. Последний раз я видел Элизабет, когда тюремный охранник вводил ее на борт. Она сильно мерзла, видно было. А во Франции я ее не встречал, понятия не имею, куда ее отправили. Меня — в федеральную тюрьму в Кутанси, но там инвалид не потребовался, и меня через неделю отослали обратно. Сказали: «небо благодари за нашу доброту».