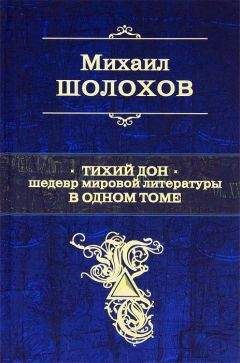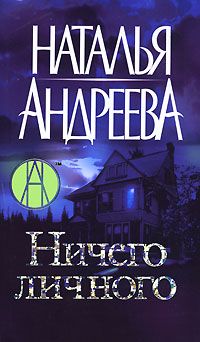Иосиф Шкловский - Эшелон
Другой причудой нового владыки Института было крайнее ужесточение идейно-воспитательной работы в Институте. Наивысший накал, однако, имел место после войны, что явилось отражением глобального похолодания. Именно в это время функционировал в ГАИШе знаменитый высокоидейный семинар. Николай Дмитриевич, уже не бывший директором, исступленно руководил этим семинаром. Помню многодневные абсолютно схоластические бдения па такую вполне гегелевскую тему: «Наука-система и наука-метод». Чем кончились эти пустопорожние сотрясения воздуха, я уже не помню. Но хорошо помню, как после каждого заседания кафедры небесной механики руководстве кафедры во главе с Николаем Дмитриевичем шло в магазинчик на Пресне и прямо там, «из горла» давило бутылку «московской». «Что-то меня после космогонии на водку тянет!» — любил говорить заведующий кафедрой небесной механики, где под его руководством бесплодно разрабатывалась какая-то странная лженаука, называемая «динамическая космогония». Если говорить о наиболее фундаментальных достижениях нашего Института, то я бы, пожалуй, назвал разработку метода «на троих» — это было еще в далекие довоенные времена!
Что и говорить — Николай Дмитриевич был колоритнейшей фигурой. В начале войны он переселился на Обсерваторию, очень много пил, а когда в душные июльские ночи 1941 фашисты ожесточенно засыпали Пресню зажигательными бомбами, ходил по двору в роскошном халате, декламируя по-французски Альфреда Мюссэ — я это все видел сам. Он был смелый человек, хотя и большой позер. После войны его ошеломили научные изыскания Корифея Всех Наук, и он на этом деле чокнулся. Николай Дмитриевич очень тяжело болел, героически перенося немыслимые физические страдания, и умер в конце 1955 года, немногим не дожив до разоблачения Культа. Уж он бы этого «безобразия» не пережил — в этом можно не сомневаться.
Еще в войну, когда ГАИШ был в Свердловской эвакуации, Моисеев был свергнут (не помню, как это произошло — мне, лаборанту, не до того было). Директором стал Сергей Владимирович Орлов — милый старикан и астроном вполне нулевого уровня. Ему бы быть в доброе старое время преподавателем гимназии — да он и был им, но почему-то пошел в науку, где стал эпигоном механической теории кометных форм Бредихина. Был он человек добрый и незаметный, за что ему спасибо. Все держалось на его очень представительной, на редкость благородной внешности.
«Понтификат» С. В. Орлова продолжался вплоть до конца 1952 г. Это было трудное время в истории нашей страны. И я, вместе со многими моими современниками, вполне мог тогда оценить знаменитое объяснение феномена атмосферного давления, данное Великим Комбинатором Шуре Балаганову. В конце 1951 года из ГАИШа было уволено несколько сотрудников, преимущественно «инвалидов пятого пункта» — мои старые друзья по аспирантуре Саша Лозинский, Абрам Зельманов (он потом устроился работать в планетарии), Валя Бердичевская. Меня тоже уволили. Остались в ГАИШе из этой категории только ветераны войны — Липский и Косачевский. Увольняли под предлогом «сокращения штатов». Помню, как мрачно смотрел на меня замдиректора Института Куликов — «дядя Костя». «Ничего нельзя сделать. Головы летят!» — гудел он своим костромским выговором.
Я был до удивления спокоен — понимал происходящее и был готов к значительно худшему. Получив полный расчет, с карманом, набитым пятью тысячами старых рублей, я пригласил своих друзей, сотрудников нашего Института — Ситника и Липского — на прощальный банкет в ресторан гостиницы «Москва». Послевоенная Москва тогда сочилась от изобилия всякого рода деликатесов — не то что в наши дни, после длиннейшей в истории России мирной почти сорокалетней передышки…
Вот тогда я напился. Напился смертельно, до потери сознания, хотя внешне это было не так уж заметно. Я помнил отчетливо две вещи: а) последняя электричка в Лосинку, где жила моя бедная мама, отходит в 1–20 ночи, б) метро прекращает работу в 1 ночи. Щедро (слишком щедро!) рассчитавшись с официантом, я простился с друзьями и весь натянутый, как струна, прошел через контролера метро (тогда автоматов не было!). Потом расслабился и долго не мог понять, почему под моими ногами пляшет лестница эскалатора. И почему я так долго спускаюсь по этой чертовой лестнице — ведь эскалатор «Охотного ряда» короткий! Мое внимание привлекла смеющаяся девушка, которая на параллельной ленте эскалатора опускалась. «Не может быть, чтобы в столь поздний час две ленты эскалатора метро работали в одном направлении», — логично решил я, и как раз тут подымающаяся лента эскалатора, по которой я тщетно пытался спуститься, выбросила меня наверх. К счастью, контролер уже не мог наблюдать эту сцену.
Я очнулся в зимней электричке, где, забившись в угол, услышал: «Мытищи. Следующая Строитель». Я впервые проехал родную Лосинку. На пустынной платформе «Строитель» все было бело от свежевыпавшего снега. Я сообразил, что надо перебраться на противоположную платформу, где я, все еще не отрезвев, пролежал на скамейке до полшестого. Из карманов сыпались сторублевые купюры. Кругом ходили какие-то ночные тени. Странно, но меня не ограбили. А через две недели я был восстановлен. Это сделал ректор МГУ Иван Георгиевич Петровский по ходатайству моего бывшего шефа Николая Николаевича Парийского. Пока я буду жить, я этой ночи не забуду.
В 1952 г. к власти в Институте пришел Борис Васильевич Кукаркин. Человек крайне беспринципный, он давно уже жаждал этой самой власти (есть такая категория людей, на мой взгляд, чрезвычайно опасная). На моих глазах за какой-нибудь год-два он разворачивался на 180°. Например, сразу же после войны он призывал нас, молодых астрономов, печататься только в англо-американских изданиях и тем утверждать и пропагандировать выдающиеся достижения отечественной науки. Спустя пару лет он с не меньшей яростью и во имя той же отечественной науки предавал анафеме тех жалких безродных космополитов, которые печатаются в иностранных изданиях. В нем было что-то от иезуитов и очень много истерики. Его не любили и не уважали. Имел, например, глупость многократно хвастаться, что может 17 раз подряд повторить известный подвиг Геркулеса — брехал, конечно. Вообще, число «17» действовало на него почему-то гипнотически. Впрочем, был не без способностей, астрономию любил, хотя систематического образования не получил и был самоучкой.
Его свергли в 1956 году, причем я приложил к этому делу и свою руку. А зря! Вообще, никому не советую принимать участие в «пронунсиаменто», то бишь — дворцовом перевороте. Всегда на смену приходит нечто еще более мерзкое.[25] Впервые в практике ГАИШа на «княжение» был призван варяг из Казани — Дмитрий Яковлевич Мартынов, сокращенно Дямка. До этого ГАИШ всегда был питомником директоров для других астрономических учреждений. Наступила более чем 20-летняя эпоха «Дямократии». Определяющим в личности Дямки было то, что он уже с 25-летнего возраста был директором. А одно время был даже ректором третьего в стране университета — Казанского. По этой причине он был пропитан ощущением своей значимости и величия, что совершенно вскружило его слабую голову. Это был (и есть, конечно — ведь еще живой!) воинственный, какой-то самозабвенный бюрократ, очень опытный и досконально знающий свое чиновничье дело. Мы сразу же, мягко выражаясь, невзлюбили друг друга. Если бы это касалось моей личности, это еще было бы полбеды. Но, начиная с 1953 года я по кусочкам, из талантливой молодежи, остро ощущавшей происходящую в нашей астрономической науке революцию, формировал отдел, условно называемый «отдел радиоастрономии», хотя мы не ограничивались только радиоастрономией. Это было дьявольски трудно, но так увлекательно! А какой славный был у нас коллоквиум. Да и сам я переживал длительную полосу творческого подъема — богиня удачи была ко мне благосклонна. А тут еще был запущен первый советский спутник — началась космическая эра. Сразу же я предложил эффектный метод «искусственной кометы», позволивший проводить оптические наблюдения лунных ракет. Стал заседать на Миусах, у Келдыша. Мои ребята с огромным энтузиазмом занялись Космосом. В разгар этих событий в ГАИШ пожаловал сам Сергей Павлович Королев, пожаловал, так сказать, инкогнито. Зашел в Дямкин кабинет, благо пропусков в ГАИШе не спрашивали. Кабинет был пустой, и С. П. с начальственной небрежностью расселся в одном из кресел. И тут появился Дямка, обалдело уставившись на дерзкого незнакомца, который, потешаясь над незадачливым хозяином кабинета, отнюдь не спешил представиться. Я, весь день ждавши С. П., пошел как раз в это время в буфет. Положение спас Петя Щеглов, который, увидев Главного Конструктора, вытянулся во фрунт и выразил тем самым свое особое уважение… И только тогда Дямка понял, кто сидит у него в кабинете…
Отношения мои с Дямкой прогрессивно ухудшались, и, улучив момент, он провалил меня на конкурсе. Пришлось жаловаться Ивану Георгиевичу на самодурство директора ГАИШ и недооценку им важности космических исследований. И опять меня спас незабвенный Ректор.