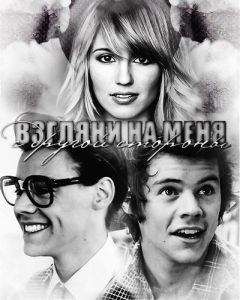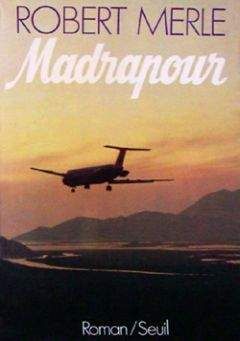Борис Черных - Есаулов сад
Цыгане и Пушкин подняли чаши.
– Что это – романсеро? – спросил Пушкин. – Напев печальный?
– А послушай, – сказал Лорка, – и ты поймешь, что есть цыганский романсеро.
Цыгане мгновенно затихли.
Лорка начал говорить – не читать – романсеро обыденно и даже нехотя:
– Это было в праздник Сант-Яго,
Когда фонари погасли
И песни сверчков загорелись.
На последнем глухом перекрестке
Я тронул уснувшие груди,
И они расцвели мне навстречу,
Как белые грозди жасмина.
Крахмал ее нижней юбки
Мне уши наполнил звоном,
Как лист хрустящего шелка
Под десятью ножами.
Деревья выросли выше,
Потонув а потемневшем небе,
Горизонт за рекой залаял
Сотней собачьих глоток…
– Грубо, – сказал Пушкин, но Лорка читал дальше:
– За колючим кустом ежевики
У реки, в камышах высоких
Ее тяжелые косы
На мокром песке разметал я…
Пушкин вскочил, глаза его вспыхнули словно агаты. Лорка, укрощая друга, опустил руку ему на плечо.
– Я снял мой гарусный галстук,
Она сняла свое платье.
Я снял ремень и револьвер.
Она все четыре корсажа.
**** **** **** ****
– Она от меня ускользала,
Но сети мои были крепки.
И бедра ее метались,
Как пойманные форели…
Пушкин захлопал в ладоши и закричал:
– Черт, черт его сподобил родиться! И ангел тоже! Ай да Лорка! – Он стал целовать Федерико, а тот отбивался и бормотал: «Дай, дай, доскажу!»
– Пусть допоет, – пыхнув трубкой, повелел старый цыган. – Уважь Федерико. Потом мы уважим тебя, Пушкин.
– Я мчался этой ночью
По лучшей в мире дороге
На лошади из перламутра,
Забыв про узду и стремя.
Я поступил как должно,
Как истый цыган. Подарил ей
Шкатулку для рукоделья,
Большую из рыжего шелка.
И не стал я в нее влюбляться,
Она ведь – жена другого,
А сказала мне, что невинна,
Когда мы к реке ходили.
Лорка замолк. Пушкин онемел. Молчали цыгане. Потом они подняли кружки и выпили до дна.
– Теперь твой черед, русский! – молвил старый цыган.
– Да я, право, в смущении, – залепетал Пушкин. – После сего божественного мадригала…
– Не смущайся, я знаю тебе цену, – сказал Лорка. – Будучи в России, ты умудрился написать об испанках то, негодник, что я не написал про русских девушек…
– Что же я написал, Федерико? Что возмутило тебя?
– Неужто запамятовал? «Она готова хоть в пустыню бежать со мной, презрев молву, хотите знать мою богиню, мою севильскую графиню?… Нет, ни за что не назову!»
Пушкин повинно потупил голову.
– Можно, я прочту не свое, а моего тезки. Вы не пожалеете, – Пушкин встал над костром, – нет, не пожалеете.
И опять цыгане онемели.
– И каждый вечер в час назначенный,
Иль это только снится мне…
– Пушкин, полузадохнувшись, сделал паузу, так его пленяли эти строфы:
– Девичий стан, шелками схваченный,
В огромном движется окне.
И медленно пройдя меж пьяными,
Всегда без спутников, одна,
Дыша духами и туманами,
Она садится у окна.
И веют древними поверьями
Ее упругие шелка,
И шляпа с траурными перьями,
И в кольцах узкая рука…
Теперь нервно приподнялся Федерико Гарсия Лорка и слушал, опустив изнеможенно лицо.
– И странной близостью закованный,
Смотрю за черную вуаль.
И вижу берег очарованный,
И очарованную даль.
**** **** **** **** ****
И перья страуса склоненные
В моем качаются мозгу,
И очи синие, бездонные
Цветут на дальнем берегу…
– Мне никогда не написать столь дивно, – сказал Лорка. – Эти томительные строфы забирают в плен. Мне кажется, правда, что в раннем отрочестве я слышал эти чудные звуки, кто-то напел их мне.
– Вполне мог слышать, – отвечал Пушкин. – Эти стихи сочинил мой ученик, может быть, превзошедший меня. В конце недолгого своего пути он, увы, заблудился и воспел революцию, революция сожгла его дотла…
Они, Пушкин и Лорка, грустно молчали.
– Русский, русский! Смотри! – юная цыганка сделала выступ маленькой ножкой, забренчали пять гитар, вразнобой, но обретая лад и как бы теряя его, и снова в лад. Цыганка пошла плавно, потряхивая плечами. Зазвенело монисто на ее груди.
– Хак! – выкрикнул старый цыган и выступил тоже.
– Хак! – вскричал Лорка, вызвал из толпы пожилую цыганку, они пошли по кругу, по кругу, и луг процвел.
– Это его старшая сестра Пресьоса, – сказал старый циган.
Скоро весь табор шел в круговерти. Юная цыганка вовлекла и Пушкина в танец.
– Ты черный и кудрявый. Уж не цыганка ли твоя мама? Ох, одного племени ты с нами, Пушкин! – вскрикнула цыганка, овевая его крыльями-руками, увлекая с луга в пойму реки.
Пушкин очнулся ночью, найдя себя возлежащим на ковре, костер теплился. Звезды сгорали в высоком поднебесье. Рядом сидел черноволосый мужчина, с ним уважительно беседовал Федерико.
– Проснулся, Пушкин? – Лорка протянул им кружки с вином. – Познакомьтесь и выпейте, соплеменники!
– Меня потянуло на запах мамалыги, – сказал незнакомец.
– Это Искандер, он из России, – сказал Гарсиа Лорка. – Он пришел после нас, мы его не застали. Нет, он не застал нас, но запах мамалыги помог нам. Он гнет нашу линию, Пушкин.
– Фазиль, – представился незнакомец. – Вообще-то я родом из Абхазии, но на моей родине заваруха, я вынужден жить в Москве.
Пушкин сказал, чуть помедлив:
– А что я говорил, дорогой Фазиль! «Свобода, свобода!». Теперь вы объелись этого сладкого дерьма?
Искандер ответил:
– Тебе, Саня, тридцать семь лет, а мне семьдесят, я внял тому, чему ты не успел внять, ибо ты жил, согласись, при деспотическом режиме.
– Ах, будто ты, Фазиль, большую часть жизни прожил не при деспотах, худших во сто крат…
– Свобода, Александр Сергеевич, – почтительно отвечал Искандер, – должна выбродить. Как выбраживает вино.
– О, он наш! – воскликнул Лорка. – Истинно! Свобода должна выбродить! Ее нельзя закупорить, она все равно взорвет бочку.
– Но бунт черни еще не свобода, дорогой Федерико, – сказал Пушкин.
– Народ не чернь, Александр Сергеевич, – отважно возражал Искандер. – Хотя народ может захлебнуться свободой. Как и вином. Надо соблюсти меру.
Пушкин сказал:
– София – мера всему. Вы не потеряли Софию, Фазиль?
Абхазец сокрушенно потряс кудлатой головой:
– Боюсь, потеряли, – сознался он. – Прости нас.
Старый цыган вмешался в разговор:
– И у нас потеряли Софию, а, значит, меру. Вот Федерико, любимец Испании. Он мог бы жить и жить… – и старый цыган осекся, проговорившись. Глаза его заполнили слезы.
– Не надо, Камборьо, – мягко увещевал Лорка, – мы вместе навеки. И Пушкин, и Блок, и я. Искандер тоже к нам сойдет. Бессмертные, мы опять заговорим, голос наш услышат заблудшие. В этом весь секрет. Нас убивают, но мы живы, и будем живы вечно.
Они снова пригубили вино. Лорка обнял Пушкина, они пошли от костра в ночь, храп лошадей у коновязей сопровождал их уход.
– Эй, погодите, – выкрикнул Искандер, – я хотел сказать, на прощанье, что все не так плохо, если пишутся эти строфы, послушайте…
– Читай, – сказал Лорка. – Нам пора. Светает. Но две строфы можно.
– В небе звезда. Зима.
Гости чужой земли,
Ночью стучат в дома
Ирода патрули.
Страх по домам снует.
Полночь бледна, пуста.
Где-то уже растет
Дерево для креста…
Искандер замолк.
– Еще, Фазиль, – попросил Пушкин. – Кажется, ты прав.
– Вдруг соловей запел в кустах
Так, будто птица собиралась
Разлить, размножить песнь в веках.
И песня тут же оборвалась.
Но уходящий запах чуда
Тревожил долго ночь земную.
Но губы тонкие Иуды
Уже мокры для поцелуя.
– Кто он? – спросил Лорка.
– Тебе имя его ничего не скажет. Он родился много позже того, как ты ушел.
– Он русский, не спрашивая, говорю я, – сказал Пушкин. – И все же откуда он родом?
– Да из Рыбинска, – отвечал Искандер, – верхняя Волга.
– Дай Бог стать ему великаном. «Где-то уже растет дерево для креста», – повторил Пушкин. – Зябко и дерзновенно, друг мой Лорка.
– Ты выпей с ним, за нас, – сказал, обращаясь к Искандеру, Лорка. И они, Пушкин и Лорка, отдаляясь, потеряли голос.
Искандер видел – туман обнял их колени и торсы и скоро поглотил их совсем.
Март– апрель 1999
Благовещенск
Звездный час Венки Хованского
Через два года он сказал ей:
– Не рассчитывай на большее, чем это, ну, сама понимаешь. А дальше – ни, не получится. Там – она.
– Да?! – вскричала она. – А если я беременна?! А если я хочу родить девочку Тату? Таточка, доню моя, я рожу тебя назло блаженному твоему папеньке…
Он отвечал, что с Татой им не светит. Изба прохудилась, а и в худой нет прописки, родная милиция сгонит в любую минуту, зарплата, сама понимаешь, грошовая, туалет холодный, а за водой надо на колодец на Мухинской, – ей отказывали, да, ей отказывали.