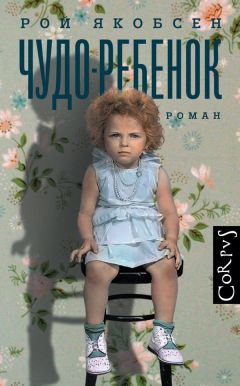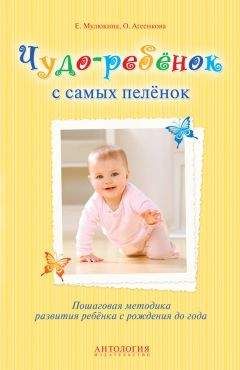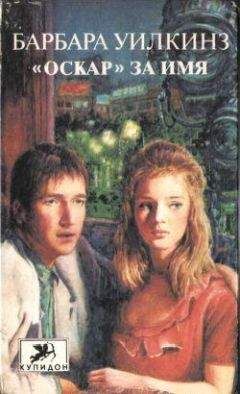Рой Якобсен - Чудо-ребенок
— Я больше не могу, — разнюнилась она. — Я больше не могу.
Я тоже больше не мог. Взял и ушел.
Вечером того же дня главная героиня ушла поиграть к одной из сестренок Марлене, так что арена была предоставлена матери и сыну полностью — почти полностью, потому как сломался телевизор и к нам заглянул один Кристианов знакомый в белом комбинезоне, оснащенный тяжеленным чемоданчиком с массой всяких электронных трубок и предохранителей, которые были разложены по малюсеньким ячеечкам, чтобы их легко было вытаскивать. Глядя, как он открутил заднюю крышку телевизора и погрузился в дотошное изучение содержимого пораженной силикозом грудной клетки, с легкими, сердцем и артериями, я почти отвлекся от мрачных мыслей. Я так и спросил, мол, вот это что—кишки, да? Но он в ответ посмотрел на меня очень серьезно.
— Нет, это техническое устройство. Оно не живое.
— Но ударить может?
— То есть как это?
— Ну, оно же может человека ударить?
— Если штепсель воткнуть в розетку, то может. Это называется “ток”.
— Э-э... да.
— Ты не знаешь, что такое ток?
— Неа...
— Ну, электричество тогда, о нем-то ты слышал?
— Неа...
— Финн! — послышался из кухни голос матери, в самом пронзительном ее исполнении, я откликнулся в самом своем противном тоне: стоит нам взяться за эти роли, выйти из них бывает нелегко. Но одно в этом хорошо—когда играешь роль, то хоть не надо думать, что делать дальше. И вот я теперь спросил у этого типа, не стоит ли мне сунуть штепсель в розетку, чтоб его тряхнуло крепко или дух вон вышибло. Но тут вихрем влетела мамка, уволокла меня на кухню и спросила, какого черта я валяю дурака.
— Может, я тоже собираюсь во вспомогательный класс, — сказал я. Вид у нее был такой, будто она вот-вот опять залепит мне затрещину, но я увернулся, и вдруг мне в голову пришло совсем-совсем другое.
— Я хочу посмотреть фотографии.
— Какие фотографии?
— Моего отца.
— С какой стати?
Я вернулся в гостиную и попросил дядьку-электрика одолжить мне отвертку.
— Пожалуйста.
— А побольше нету?
Он дал мне большую отвертку, и я через мамкино минное поле прошел прямо в спальню и воткнул отвертку в щелку над запертым ящиком комода, потом сел на мамкину кровать — два метра от меня до всемогущей отмычки, которая пока еще не наделала никакого вреда, но торчала в предвкушении деяний, от чего мамка опешила, вбежав в спальню вслед за мной.
— Ты говорила, что она похожа на него, — сказал я.
— Чего-чего?
— Ты говорила, что Линда похожа на отца... нашего отца. Я хочу посмотреть, так это или нет.
Вид у нее был такой, будто она уже готова мне уступить, и тут я почувствовал, что во мне созрел следующий вопрос.
— Это ты ее мать?
— Ну что ты болтаешь?!
— Это ты ее мать?
— Финн!
По щекам у меня потекли слезы, я чуть не ослеп от них.
— Ты говорила не только, что она на него похожа, — сказал я, — но и что на тебя тоже.
Она постояла какое-то время, не шевелясь, потом села и начала гладить меня по волосам, перебирать их, трепать, но сегодня я ничего против не имел; так мы сидели и смотрели на эту огроменную отвертку, видавшая виды рукоятка которой была вымазана жиром и почерневшим маслом, боясь, что минует этот момент, схожий с примирением.
— Это сложно объяснить, Финн, — сказала она. — Но я имею в виду не то сходство, что проявляется у родственников.
— А какое тогда?
— Ну, что мы, может быть, пережили схожие вещи, в детстве...
— Что-то страшное?
Она подумала и сказала:
— Да.
Вид у меня, очевидно, был такой, будто я понимаю, о чем она говорит, хотя мне уже больше не хотелось ничего слушать. Она откинула прядку волос с лица, нагнулась и вынула из прикроватной тумбочки шкатулку со своими драгоценностями, открыла ее и дала мне бумагу, оказавшуюся документом с печатью, подтверждавшим, что я есть я, Финн, родившийся у нее и у крановщика в Акерской больнице в половине девятого утра, с верно указанными датой и годом, и даже было указано имя Финн, потому что так они еще раньше, когда планировали меня, решили меня назвать, если, конечно, я оказался бы мальчиком, потому что так звали моего деда по отцу.
— Это самое дорогое, что у меня есть, — медленно проговорила она.
— Ну ладно, — сказал я, изучая бумагу, на которой оказалась еще и подпись врача.
— Поэтому я и храню все это в шкатулке, понимаешь?
Я кивнул. Она протянула мне конверт и показала, что он пуст.
— И никакого другого свидетельства о рождении здесь нет, видишь?
Я снова кивнул, становясь на килограмм легче с каждой чайной ложкой, которую она мне скармливала.
— Только одно это, — гнула она свое.
— Да-да-да, — сказал я, главным образом себе самому.
Она вернула свидетельство в конверт, достала маленький ключик, подошла к комоду и вытащила отвертку из щелки.
— Вот посмотри это, — сказала она, вставляя ключик в замок. — Это наша свадебная фотография.
— Да ладно, не надо, — сказал я, поднимаясь. Я выяснил, что, хоть в деле о вспомогательном классе она и проявила себя совершенно беспомощной, но во всяком случае именно она является моей матерью, и хотя в разыгранном спектакле речь изначально шла не об этом, но по ходу пьесы на первый план выдвинулся именно этот важнейший из всех вопросов и на него был получен положительный ответ. Не придумав ничего лучше, я схватил отвертку, пошел вернуть ее и еще раз просить прощения.
— Ну вот, — сказала она за моей спиной.—Теперь ты, во всяком случае, знаешь, где лежит ключ.
Глава 20
Несколькими днями позже с нами ужинал Кристиан. Всю вторую половину дня я провозился, сочиняя письмо Тане — письмо, которое помимо названий Румыния, Молдавия, Албания и так далее призвано было вместить в себя безмерную красоту всей моей жизни в сочетании с описанием всех тех невероятных сложностей, которых мне стоило эту жизнь выстроить.
Но оказалось, что в кои-то веки я не могу найти нужных слов.
Среди бутербродов и стаканов с молоком стояли бутылка красного вина и два высоких бокала, которые мамка хранила в шкафу в гостиной и которые мы до сих пор видели, только когда их перетирали. Линда была в хорошем настроении, она составила список, какие вкусности можно класть на бутерброд, четыре пункта, и провела по нему голосование, а Кристиан рассказал о землетрясении в Персии, унесшем тысячи человеческих жизней, объяснил, что такое шкала Рихтера, и подчеркнул, насколько нам повезло, что мы живем в Норвегии, которая располагается в стороне от разломов тектонических плит. Под эти разговоры мамка потягивала красное вино, время от времени промакивая губы салфеткой и слегка улыбаясь, и вдруг произнесла, обращаясь ко мне:
— Это же надо, что ты не побоялся высказать директору все, что думаешь.
— Да уж, скажу я вам, в парне много чего сокрыто, — поспешил подхватить Кристиан, хохотнув, но мамка моментально поставила его на место одним взглядом, тем взглядом, который говорит — что я слышу, уж не критиковать ли меня пытается жилец?
— И как же я должна была поступить? — воскликнула она, и щеки у нее покраснели.
— Да дети-то что, с детьми-то все в порядке,—промямлил Кристиан,—но вот почему нужно их, кровь из носу, расставлять по этим самым...
Мамке пришлось прийти ему на подмогу.
— По полочкам?
— Ээ... да.
Он выжал из себя улыбку, огляделся в поисках выхода, и взгляд его упал на Линду. — Как дела, Линда, — громко спросил он. — Нравится тебе в школе?
— Да, — сказала Линда, сбегала в комнату за тетрадкой и карандашом и принялась писать нечто, отдаленно напоминавшее буквы, так что мамка не выдержала и прикрыла глаза рукой.
— Почему вы всегда так громко с ней разговариваете? — спросил я Кристиана.
— Да? Я и не замечал.
— Да.
— Я об этом не задумывался.
— К чему ты клонишь, Финн?
Мамка убрала руку с глаз и вперила их в меня, в них читалось предупреждение. Я склонил голову как можно ниже к столу, отвернулся лицом к плите и неслышно прошептал:
— Линда?
— А? — откликнулась Линда с другой стороны стола, не поднимая глаз от своих каракулей.
Судя по лицу мамки, это подкинуло ей пищу для размышлений; у Кристиана же вид стал такой, будто он снова упустил очередной шанс, и он вдруг взорвался в непонятном бешенстве. Но мамка тут же положила ладонь на его руку — и я вдруг увидел: увидел не только, что Линда с нами делает, как она раскрывает нам нашу суть, разоблачает нас, но и до чего глупо выглядит человек, потерявший контроль над собой, — и мне даже на секунду явилась неясная мысль рассказать наконец, что на самом деле случилось с моими ребрами: что в тот ледянущий зимний день вечность тому назад жилец снова водрузил меня на лыжи и попытался кулаками поучить уму-разуму, как он выразился, чтобы я не смел рассказывать мамке, что он назвал Линду слабоумной, и я все эти месяцы носил эту тайну в себе как судьбу; не знаю уж, почему, а вот никак не хотела эта тайна выходить наружу, — и что мамкина рука, легшая поверх его руки, чтобы успокоить, утишить, и раньше ложилась на его руку так же интимно.