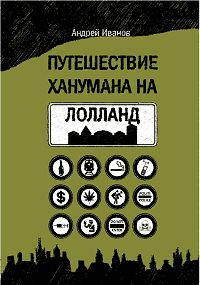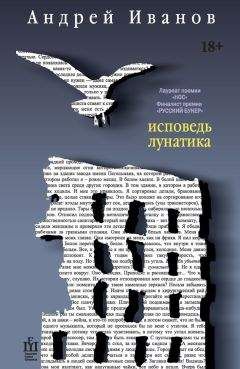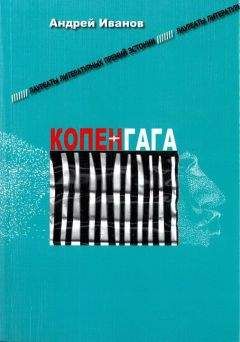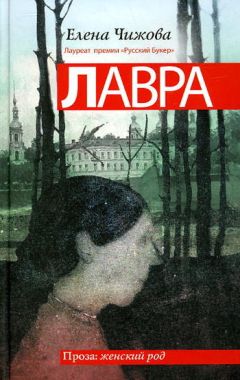Андрей Иванов - Путешествие Ханумана на Лолланд
Он носил нелепые галстуки, стираные раз триста, он носил жеваный пиджак в крупную клетку, он ходил в вельветовых брюках (однажды мелькнул в джинсах, но только однажды); у него было такое количество носков, что проще было сосчитать звезды на небе; он не сносил бы их за всю жизнь, потому что каждую пару донашивал до такого состояния, что больно было смотреть; он запасся на триста лет вперед!
Он приставал ко мне и Хануману, выпрашивал у нас презервативы, которыми была набита кожаная папка Ханумана. И Ханни уступил однажды, дал ему пригоршню. Он попросил еще. Ханни грубо отрезал:
– Зачем так много? Что ты будешь с ними делать?
– Это мое дело, – отрезал еврей.
– Тогда пошел к черту! – махнул на него Хануман.
Мы долго гадали, зачем ему было так много презервативов. Но потом само выяснилось. Как-то его видели блуждающим по пляжу у Тренда и в Греноо, где в кемпингах отдыхали немцы. Он подходил к ним и назойливо предлагал купить презервативы, он постоянно повторял: «Сейф-секс, джентльмены, сейф-секс!»[39]
Дурачков пережил эти мучения; он дождался, когда немецкие власти призвали еврея обратно, чтобы рассматривать его дело, которое было не рассмотрено до конца, потому что тот бежал в Швецию. Дело, вероятно, было пуковое. И безнадежное, конечно. Его наверняка отправили на родину; неизвестно, правда, на какую. Его национальность не вызывала сомнений, но родом он мог быть что из Одессы, что из Актюбинска.
Еврея забрали; после себя он не оставил ничего, совсем ничего. Более того, даже шарф Дурачкова пропал. Но это пустяки, главное, сам он исчез; Дурачков вздохнул с облегчением. Но ему не дали расслабиться и насладиться одиночеством, к нему сразу же подселили иранца. «Видимо, нас будут держать в напряжении», – сделал вывод Потапов. Иван убежал от иранца через день! Не выдержал, перебрался к нам.
Поставил нары над непальцем, взлез на них всеми своими конечностями, как мартышка, и затаился. Затих. Я даже не стал спрашивать, что там у него с иранцем вышло, так он затаился, так затих. Было как-то неловко его расспрашивать. Он лежал, и его ноги торчали из-под одеяла: длинные, голые, с длинными желтыми ногтями. Мне холодно было на них смотреть; мне было страшно вообразить, что я мог бы вытащить свои вот так же наружу далеко. У него были такие длинные желтые ноги, с прелостями и грибком между пальцами; у него была такая жесткая пятка. Но как бы ни были его ноги ужасны, как бы ни были они отвратительны, я просто боялся смотреть на свои. Я думал, может, они уже гниют? Я давно не проверял; я давно не заглядывал. Может, там возникли какие-то загноения? Потому что воняли они страшно. Спасало только окно и то, что я держал их под одеялом; сам боялся смотреть на них и решил, что не стану, пока не прижмет; да, пока петух в темя не клюнет; боялся, что увижу нечто ужасное. Показывать кому-то было вообще очень страшно; еще страшней, чем смотреть самому.
Дурачков много трепался, рассказывал о себе и Михаиле, говорил, что вот его сестре повезло с мужем, Михаил мужик что надо, мастер на все руки, все умеет, вообще все, просто клад, а не мужик! Он, дескать, даже не знал, чего Михаил не умел. Иногда он называл Михаила сэнсэем, иногда наставником, иногда мастером. Я старался его слушать внимательно, чтобы забыться и не думать о проклятых ногах.
Иван говорил, что был у Михаила в подмастерьях, когда тот занимался печами и каминами, они строили камины каким-то новым русским, собирали фирменные камины, камешек к камешку.
– Тут нужна голова, – говорил Ваня, – какой к какому пригнать, тут знать надо. Все ж разные, особым образом выточенные, мраморные и бог весть какие. Так просто не поймешь. Тут опыт нужен!
Платили хорошо, но не всегда бывала работа. Не каждый мог себе позволить такой камин, да еще и мастера заказать. Тем более такого мастера, как Михаил, что ты! Порой подолгу не бывало работы. Голодали даже. Тогда приходилось делать ремонты по заказу; иной раз просто за еду, ведь не станешь же брать с пенсионеров.
– Михаил человек благородный, – говорил Иван, – поклеит обои и денег со старушки не возьмет, но поест, если та что поставит.
Потом у них в Москве была своя мясная лавка, чуть ли не магазин…
Все это была ложь, конечно; я не верил ни единому слову этого лже-Ивана-царевича; он все придумывал, и вообще никаким Иваном он не был. Я же слышал, как Михаил зашипел на свою жену, когда та его Гаврилой назвала, и увел ее в комнату, где внушал ей, полагаю, дисциплину соблюдения конспирации битых полтора часа. С тех пор она вообще старалась на людях только молчать.
Может, у него и была мясная лавка, но никак не в Москве; может, и лавка, но где-нибудь в Кременчуге; или даже не лавка, а рубил где-нибудь мясо на рынке за гроши, вот и вся лавка.
Про себя он тоже рассказывал, но мало, гораздо меньше, нежели про своего старшего товарища, этого толстопузого бенефактора. Про Ивана нам по сути почти ничего не было известно. Или известно, но как-то туманно, расплывчато, и знание это было настолько недостоверное, что больше походило на выдумку. Известно было, что отец их бросил, когда ему было совсем ничего, пил да гулял, а однажды в такой загул ушел, что так и не нашелся. Жили они в разных городах – мать все время куда-то рвалась, что-то искала. Зачали его в Комсомольске (отец там отбывал), родили в Пионерске, о котором он помнил только ночи, надуваемые мехами суховея; бурю за окном, бившуюся в ставни; степь, гудевшую степь кругом; луну в мертвой тиши, желто-кровавый диск ее, в его воображении всегда сливавшийся с пятикопеечной монетой. Мать его была журналисткой на подхвате. Она писала статьи, но чаще либо просто перепечатывала чьи-то статьи, или фотографировала, а то и вовсе проявляла чей-то материал; самостоятельности ей не давали, подползти к цеху, где раздавались права на самостоятельность, ей как-то не удавалось. Ее держали только за то, что ей никогда не требовалось предоставлять аппаратуры или лаборатории, которой нигде никогда не было. Она сама все доставала и печатала свои и чужие фотографии. Еще она имела талант выдумывать шапки. Ох, она придумывала такие заголовки, что все только что и цокали от восхищения языками. Ее часто просили придумать заголовок к бездарной серой статье. Она прочитывала статью и недолго думая выстреливала название. Все только охали. Сама она настолько устала от того, что ее статьи не пропускают, что говорила: заголовок намного важнее, чем сама статья. Поэтому все статьи, написанные другими, к которым она придумала заголовок, были почти ее. Еще она считала, что все статьи советских газет и журналов были написаны одной рукой. Но даже если и так, можно было менять заголовки. Как бы часто похожи ни были, иной раз все же нет-нет, а хорошими бывают. Иван не помнил, чтоб она читала сами статьи, но был уверен, что по заголовкам она пробегала. Еще она говорила, что можно вообще не писать статьи целиком; больше не было нужды их сочинять; на все случаи советской жизни уже написано было шаблонов в избытке; можно было, чуть-чуть изменив имена и названия, придумав новый заголовок, пускать одну и ту же статью снова и снова в печать.
– Новые заголовки – это все, что современным советским журналистам нужно! – так говорила она.
Долго она не задерживалась нигде. Ей не сиделось на месте. Дольше всего они прожили в Ермаке, где Иван доучился до пятого класса. У него даже был там отчим, дядя Сема, инвалид. Вечно небритый, гундявый, с запашком спиртного. Он не гулял и не уходил далеко. Его всегда легко можно было найти. Возле пивной бочки с разливухой. У пологого склона к Иртышу. Где росли черемша и щавель, ржавели кузова старых машин, в которых Ваня с дружками играли в танкистов. Где иной пьяный, если разморило на солнце, мог уснуть на старом сиденье. И дядя Сема там тоже порой спал, выпростав единственную ногу и два костыля из пробитого окна. Дети иногда брали его костыли, просовывали в окна машин и играли с ними, как с пулеметами.
Дядя Сема пил так много пива, что его даже прозвали Селитером. Но все ему наливали. У него была банка, которую он держал всегда подле. И кому было не жаль, наливали. Со словами «герою-стахановцу наше уважение». Или просто «герою наше». Он не допивался ни допьяну, ни до чертиков, ни до белой горячки, он просто тихо шлялся на своих костылях, он даже свою пенсию умудрялся сохранить и с умом потратить на Иванушку или его мать. Жили они неплохо, тихо-мирно, но потом ей все это надоело. Как-то она познакомилась у них в местной газетенке с каким-то заезжим репортером, который не прочь был гульнуть, как все гастролеры, и с катушек съехала. А после того как тот уехал, она впала в печаль, выйдя из нее с воплем: «Ой, бля, мне этот ваш Ермак – вот такое ярмо на шее!»; собрала чемодан, схватила Иванушку – и на автобус.
Они объездили весь Союз. Она всюду все снимала! Она раскладывала по вечерам свои фотографии, как гадалка карты, и длинными тонкими пальцами перекладывала, рассматривала, и он, он тоже рядом с нею. Они часами просиживали за этим делом, они сидели, рассматривали фотки и болтали, даже голода не чувствуя. Они облазили все лесостепи и плоскогорья, он катался на всех видах транспорта: от дробного ослика по высохшим горным речкам, жмурясь на Казбек, до верблюда – к легендарным колодцам пустыни! Иван видел все! Он даже видел, как едят сырую рыбу, не потроша! О каждой республике у него сохранились свои особые впечатления, замершие на ее фотографиях. Впечатления сохранились, а фотографии нет. В Когалыме она спуталась с очередным гастролером; он работал на стройке, заезжая на два-три месяца, и на это время становился ей мужем, а ему – наказанием в виде отжиманий и прямого угла у стеночки, а потом уезжал, становясь тем же для кого-то где-то – неизвестно где. А она бесновалась и искала кого-то себе взамен, путаясь с новыми и новыми гастролерами и все больше и больше заливая свое горе самогоном. И это уже доходило до белой горячки. И она даже таблетки какие-то пила. И с какими-то странными личностями она что-то курила. Жили они у какого-то деда. А дед все больше и больше впадал в инфантильное помешательство. Сперва он все собирал бутылки, потом пакетики, потом бечевки, потом гвозди и осколки стекла, пробки и проволочки, все что угодно. Он так серьезно всем этим занимался, так подолгу наводил порядок в своем подвале и сарайке, так это все раскладывал по полочкам и коробочкам, что никто даже не заподозрил в нем сумасшедшего. Для всех он был обычным стариком, тяготеющим к бормотанию себе под нос, бережливости и идеальному порядку. Поэтому для всех был большой сюрприз, когда его прорвало. Однажды, когда надоело ему шляться, сел он у окна и стал смотреть, покачиваясь да напевая какую-то свою грустную песню. А потом стал плевать на головы прохожим, браниться-материться да кидать в окно все то, что насобирал. А потом вышел во двор, влез в песочницу и стал играть с детьми. Старухи давай его гнать, а он штаны, бесстыдник, снял и своим хозяйством стал потрясать! Тогда его и забрали. Мать спивалась. Иван пошел в армию, где ему пришло известие о том, что она отравилась. В армии он служил на Каспийском море, ползал водолазом по днищам кораблей, выскабливая их от наростов барнакля. В свободное время все курили травку или пили каннабисное молочко. Кое-кто ширялся. Слушали «новую волну», так называемый политрок, играли в карты и бухали… Вернулся он в Когалым, чтобы достраивать то, что никак не прекращало строиться. Там он и снюхался с Михаилом, который на те стройки за длинным рублем подался, как те гастролеры, с которыми когда-то мать его путалась, вот и он тоже влип, спутался, после этого все и началось… А что «все», собственно, так никогда он и не объяснил…