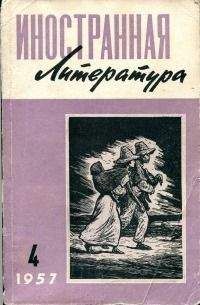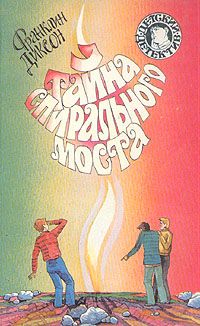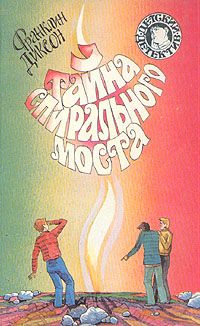Эли Визель - Завещание убитого еврейского поэта
Из всех отзывов на мою статью только его послание причинило мне боль.
Горькая ирония, признайте это, гражданин следователь: ныне именно «Листок» от меня отрекается, а сионистская пресса берет меня под защиту. Газетные вырезки, что вы мне показывали на прошлой неделе (или в прошлом месяце, а может, — году? Я потерял здесь всякое представление о времени), заставили меня улыбнуться: выходит, Пинскер всегда считал меня агентом-провокатором. Вот почему когда-то он противился моему вступлению в партию. И другой его сотоварищ, Альтер Йозельсон, на страницах той же газетки занимается самокритикой: «Признаюсь, этот змий меня поимел». А в американской газетке еврейских коммунистов некто Швебер обливает меня грязью, тогда как десяток лет назад превозносил до небес. Да, это больно. Мои товарищи, вчерашние закадычные друзья так внезапно решили меня приговорить.
Почему вы подсунули мне эти статьи, гражданин следователь? Чтобы показать, как далеко распространилась весть о моей отверженности? Вам это удалось. Ни один из всех прочих ваших аргументов так меня не опечалил: «Ты что, обвиняемый Коссовер, считаешь, что только я тебя называю предателем? Может, ты ждал, что из Парижа придут свидетельства в твою пользу? Взгляни лучше на эти газетные вырезки. Увидишь, что о тебе думают твои друзья. Это они тебя обвиняют в предательстве, а яда в их речах больше, чем в наших… Взгляни, ну, смотри же, обвиняемый Коссовер. Они вынесли тебе приговор раньше, чем начался суд…»
Это больно. Да, это горько.
Полагаю, вы подсунули мне сионистские статейки из тактических соображений, уж я-то вас знаю. Чтобы потом сказать: «Полюбуйся, обвиняемый Коссовер, кто спешит тебе на помощь. Реакционеры, империалисты, злейшие враги Советской России — и что? Ты упорствуешь, продолжаешь отрицать, что ты их сообщник? Тогда почему они пытаются спасти твою шкуру, объясни-ка?»
Только вы просчитались. Я доволен, слышите? Наконец я заслужил добрые слова от сионистов — сознательных и преданных евреев, настоящих еврейских евреев. Их поддержка придает мне сил. Тут-то ваша хитрость не удалась. Не то, что с «Листком». От той мне стало совсем противно. Как вспомню о ней, меня и теперь тошнит. Чтобы очистить голову от гнили, вспоминаю лицо своего отца. Его голос. Его просьбу о филактериях. Ах да, относительно тфилин. Их-то я забыл, они остались где-то в недрах шкафа, под моими рубашками. У Шейны Розенблюм. Из-за ваших происков я о ней почти забыл. И о ней тоже.
Вы будете смеяться: я с вами говорю, вспоминаю о ней, а вижу только ее губы. И ничего другого. Я просто терял голову от ее рта. Ей достаточно было приоткрыть губы, и мое тело тянулось к ней. Иногда, возвратившись поздно после утомительного трудового дня, полного статей и собраний, я видел Шейну, она спала в своей кровати или в моей, ее рот подрагивал. И тогда, несмотря на усталость и на прошлые бессонные ночи, я склонялся к ней, чтобы ее поцеловать, — и так до утра.
В газете я, случалось, флиртовал с другими девушками, которые мне очень нравились. Вокруг Пауля Хамбургера все время роились прелестные и таинственные создания… Мне вспоминается Лиза… тонкая, похожая на ангела, она отвечала за связь с подпольной группой в Германии. Я ее страстно желал. И она наверняка догадывалась об этом. Помнится мне и Клер, крупная хохотунья, заигрывавшая со всеми вокруг, часто рассказывавшая о каких-то легкомысленных историях, внушая мысль, что она проводит все время в интрижках, и однако… Поговаривали, будто она девственница. Была еще Магдалена, одна из секретарш Пауля. Она переводила его статьи на французский. Когда читала или писала, хмурила брови. Красивой я бы ее не назвал, но мне нравилась ее манера держаться, ее сосредоточенность. Я бы мог завязать несколько легких интрижек, но мне не хватало времени… и смелости. А то немногое, что оставалось, я приберегал для своей квартирной хозяйки. Ритуал никогда не менялся. Она заставляла меня прочитать какое-нибудь стихотворение, закрывала глаза… И я делал то же. В стихах она не понимала ни бельмеса, ну и что? Тем не менее она платила мне авторские.
Любила ли она меня? Возможно. А я? Иногда. Я настоял, что буду платить за квартиру. Впрочем, суммы были чисто символические. Я обращался к ней на «вы», по крайней мере сначала. Она никогда не окликала меня по имени, всегда это были какие-то пришедшие ей на ум прозвища: то «мой поэт», то «мой великий поэт», «А не хочет ли мой милый гений, случаем, поесть?», «А мой великий Рембо не простудится?»
От Пинскера я знал, что у нее было много романов, но она никогда ни о чем таком не упоминала. «Прошлое это прошлое, — говорила она и грозила мне пальцем. — Трогать запрещается».
Что до будущего, Шейна была им заворожена. Бедняжка, она могла бы зарабатывать на жизнь как гадалка. Ее предсказания поражали меня своей точностью. Однажды утром она проснулась и, потягиваясь, объявила: «Чувствую, скоро придется идти на похороны». На той же неделе умерла одна из ее теток. В другой раз: «Скоро попразднуем!» А на следующий день один приятель убежал из немецкой тюрьмы… Понятно, почему я боялся ее обманывать: она бы тотчас угадала.
Предполагаю, что она была мне верна, иначе я бы неминуемо наткнулся в доме на другого поэта. Но таковых не имелось. Иногда я заставал в доме неизвестного визитера, присланного партией, который оставался на ночь или две. Тогда я уступал ему свою комнату и перебирался к Шейне.
«В свет» я выводил ее очень редко, поскольку не располагал средствами. И никогда, ни в коем случае я не позволил бы ей расплатиться при мне в кафе или ресторане. Гордость? Тщеславие? И то и другое разом, прибавьте туда же, если пожелаете, самолюбие и остатки буржуазного воспитания: в Льянове хорошо воспитанный юноша никогда бы не позволил себе поступить на содержание к женщине, даже если бы она была богата и снедаема любовью к еврейской поэзии.
Но однажды я все же пригласил ее пообедать. Перед этим я только что получил и обналичил чек за длинный рассказ, опубликованный в «Листке» и переведенный на французский одним из сотрудников газеты «Сё суар». Первый раз меня напечатали по-французски, и от этого я почти что впал в экстаз. Мы попивали винцо, когда в дверях ресторана проявился Пауль. С Шейной он был знаком, она ему кивнула, пригласив присоединиться к нам. Пауль был моим самым близким другом, но по необъяснимым причинам в его присутствии мне стало не по себе. Осудит ли он меня? Рассердится ли, что у меня роман с богатой женщиной? И что я к ней привязан? Пуританин еще не умер во мне. Я сидел хмурый. Шейна же была в прекрасной форме. Великолепная, привлекательная… Ее звонкий смех притягивал взгляды окружающих. Меня чуть встревожило сомнение: не являются ли она и Пауль… возможно ли это? Но нет! Пауль мне бы сказал. Он был такой: прямой, открытый. Правда — прежде всего, для него она была в том же ряду, что и дружба, он не отделял одну от другой… Он бы усадил меня перед собой в своем кабинете, затворил бы дверь, поглядел бы мне прямо в глаза и произнес: «Послушай, друг мой, я знаю, что ты живешь с Шейной. Это меня не волнует, поскольку не мешает работе. И все же хочу, чтобы ты знал: когда-то мы с Шейной были близки. Хотя все давно прошло…» Вот так бы поступил Пауль Хамбургер. Нет. Ничего меж ними не было… Тогда почему мне не по себе? Меня раздражало как раз то, что я не понимал, что меня коробит. А вот Пауль вел себя вполне естественно. С юмором комментировал всякие слухи, рассказывал о положении дел в Германии: анекдоты, высказывания, сплетни. Был более блестящ и увлекателен, чем всегда. В конце трапезы тактично не стал нас провожать, сослался на дела в квартале, поцеловал Шейну в обе щеки, пожал мне руку и исчез, завернув за угол где-то возле Оперы. Я был ему за это благодарен и снова почувствовал себя счастливым.
Было ли мне вправду так уж хорошо? В этой холодной и голой камере, куда солнечный свет не проникает никогда, даже по высочайшему приказу не смог бы, ответ мне представляется очевидным. Да, я был счастлив. И свободен. К тому же беспечен. Убаюкан любовью и товариществом. Ко всему прочему сознавал свою полезность: имел хорошую работу, сражался за правое дело. Все казалось простым. В больном обществе мы представляем единственный шанс выздоровления. Против снисходительности и покорности судьбе поднимаем знамя восстания. Я знал, куда иду, чего желаю добиться, от кого и какими средствами. Враги тоже мне были известны, и я срывал с них маски. Со мною рядом друзья. Разве это не подлинное счастье? Сегодня я, не колеблясь, говорю «да», даже не определяя его сути. В то время я бы помедлил с ответом. Спросил бы: «Счастье? Да нет, я слишком занят, чтобы думать об этом. Счастье, господа, это для буржуев, у нас, у пролетариев, есть теперь дела и поважней: мы должны победить фашизм».
И однако же, как теперь вспоминаю, у меня случались минуты истинного счастья, осознанные и сполна прочувствованные. Например, посещение одного семейства на севере страны, где тогда полным ходом шла забастовка. Меня принял шахтер, окруженный своими детьми. Семейство печальное, но гордое. Они пригласили меня к себе.