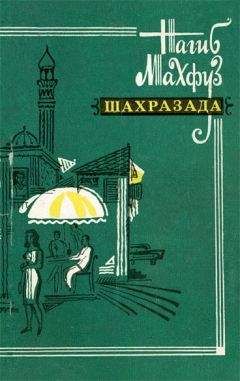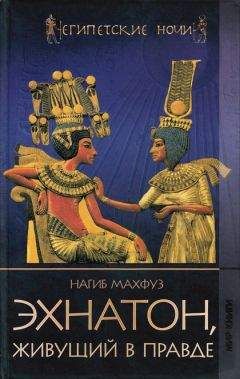Нагиб Махфуз - Зеркала
— Скажите же мне, ценят ли у нас еще добродетели или они уже вышли из моды?
Он клеймил трусость, коррупцию, распущенность.
— Нужен новый потоп. Пусть спасутся немногие праведники и построят мир заново! — говорил он.
Мне страшно хотелось узнать побольше о личной жизни Тантауи, о том, каким он был в молодости, о его отношениях с женой и детьми, как он смотрит на всякого рода мирские соблазны. Постепенно у меня составилось о нем представление как о человеке безукоризненно честном, который, однако, считает, что живет в болоте, кишащем микробами. Иногда его требовательность граничила с бесчеловечностью, а прямота была беспощадна, и это вызывало у окружающих неприязнь и даже ненависть к нему. Переводчик Абдаррахман Шаабан называл его не иначе как сумасшедшим, а Аббас Фавзи дал ему прозвище «Тантауи-праведник».
Однако даже Тантауи не смог оградить свой семейный мирок от захлестнувшей все вокруг волны новшеств. Однажды — это было вскоре после моего поступления на службу — я увидел сидящую возле его стола хорошенькую девушку. Он представил меня ей. Потом сказал:
— Сурая Раафат, моя племянница. — И добавил с шутливым возмущением: — Подумать только, студентка педагогического института! Конечно, ученье — свет, но я не признаю того, чтобы женщина служила. К сожалению, в доме моего старшего брата я могу давать только советы.
Последний запавший мне в память эпизод, связанный с Тантауи Исмаилом, относится к 4 февраля 1942 года[70]. В тот день, садясь за свой стол, он сказал мне:
— Каково? Ваш лидер возвращается в кресло премьер-министра при помощи английских танков… — Видя, как он возбужден, я не стал с ним спорить. — Где это видано?! Нечего сказать, лидер! — с горящими от негодования глазами восклицал он. И вдруг в приступе гнева закричал как помешанный: — Потоп!.. Потоп!.. Потоп!..
Таха Анан
Он появился в нашей жизни, когда мы учились в четвертом классе средней школы. Отец его служил маамуром[71] в Асьюте, а потом был переведен на такую же должность в каирский участок аль-Вайли и поселился в Аббасии. Таха Анан познакомился с моими друзьями: Гаафаром Халилем, Редой Хаммадой и Суруром Абд аль-Баки, но близко сошелся лишь со мной и Редой Хаммадой, поскольку все мы трое были убежденными вафдистами и увлекались литературой. Таха участвовал в забастовке, во время которой погиб наш друг Бадр аз-Зияди, а отец его был среди полицейских, окруживших школу и затем ворвавшихся в нее. Когда мы обсуждали действия его отца, Таха сгорал от стыда и пытался защищать его.
— Отец — патриот, — говорил он, — такой же, как и мы. Он верит в Мустафу Наххаса, как раньше верил в Саада Заглула. Но он выполняет свой долг!
— Мы знаем, — возражал Реда Хаммада, — как в 1919 году такие же офицеры, как твой отец, переходили на сторону революционеров.
— Тогда была революция, а сейчас нет… — оправдывал своего отца, как мог, Таха.
Основной чертой его характера была серьезность, и ему претили шутки Гаафара Халиля. Мы много читали вместе, иногда арабскую классику, но чаще — произведения современных писателей из числа тех, кто были тогда властителями дум. Горячо обсуждали прочитанное, и наши взгляды и вкусы, как правило, совпадали. Таха был завзятым книгочеем и ответы на все жизненные вопросы искал в книгах. Когда он узнал о моей любви к Сафа аль-Кятиб, он с удивлением сказал:
— Но это ненормально…
— И тем не менее это так, — ответил я, задетый его словами.
— Я тоже люблю свою двоюродную сестру, и мы собираемся объявить о нашей помолвке.
Верный своей привычке обращаться за ответом на все вопросы к книгам, он повел меня в библиотеку, и мы вместе прочли статью «Любовь» в Британской энциклопедии.
— Вот тебе любовь со всех точек зрения: физиологической, психологической, социальной, — сказал он. — Теперь ты видишь, что твое чувство не любовь, а сумасшествие… — Заметив, что я едва не задыхаюсь от возмущения, он произнес с улыбкой: — Не сердись, может, нам что-нибудь еще почитать об этом?
Но специально о любви мы больше уже ничего не читали, хотя вообще-то читали немало, особенно во время летних каникул. Многое было для нас новым и удивительным. Оно рождало смятение в наших душах и мыслях, потрясало юные сердца.
Однажды, когда мы сидели в кафе «Аль-Фишауи», Таха неожиданно заявил:
— Мы должны начать с нуля!
— Как с нуля? — удивился я.
— У нас нет другого способа преодолеть наши сомнения, иначе как начать все сначала, — уверенно подтвердил он.
Я продолжал смотреть на него с недоумением, хотя уже, кажется, понимал, что он имеет в виду.
— Мы должны проследить заново всю историю цивилизации, воспринимая ее только разумом.
— А если мы наткнемся на то, что невозможно объяснить разумом?
— Мы возьмем разум в проводники и посмотрим, куда он нас приведет.
Отправившись в путешествие по истории, мы продолжали его два первых года пребывания в университете. Потом произошли непредвиденные события. Исмаил Сидки отменил конституцию 1923 года, и партия «Вафд» выступила против него, призывая народ к борьбе. Напряжение достигло высшей точки. Все перекрестки были заняты полицией и войсками. Таким образом, была исключена возможность проведения мощной демонстрации. Небольшие группы людей из разных слоев общества собрались в боковых улочках и переулках, иногда делали стремительные вылазки, выкрикивали лозунги и швыряли кирпичи в полицейских и солдат, но, преследуемые выстрелами, спасались бегством. Таха Анан, Реда Хаммада и я с первого дня участвовали в таких стихийных выступлениях. Мы видели, как падали под залпами сотни людей, как коршунами кидались на них солдаты, тащили их волоком и с нечеловеческой жестокостью швыряли в грузовики, а потом землей и песком засыпали на асфальте следы крови. Перед заходом солнца ожесточение схватки спало, группы демонстрантов поредели, но откуда-то еще доносились лозунги и свистели редкие пули. Решено было идти по домам. Шатаясь от усталости и поддерживая друг друга, мы брели по улице Хасан аль-Акбар. Таха Анан, шедший между нами, сказал:
— Народ борется уже несколько месяцев. Жертвы неисчислимы!..
— Сидки — настоящий кровопийца! — воскликнул Реда Хаммада.
— В любом случае, — заявил Таха, — такая бурная реакция народа на события значит куда больше, чем те отвлеченные дискуссии, которые мы слышим в салоне нашего профессора Махера Абд аль-Керима. — И вдруг тяжело повис у нас на руках.
— Ты что, устал? — спросил я.
Не отвечая, он оседал все ниже. Мы наклонились к нему и увидели вытекающую из его рта струйку крови.
— Он ранен! — закричал Реда.
Выстрелы еще не смолкли. На одном из домов мы заметили вывеску зубного врача и в смятении потащили Таху к нему. В приемной, кроме санитара, никого не было. Уложив раненого на диван, санитар кинулся к телефону вызвать врача.
Таха скончался у нас на руках, прежде чем подоспел врач.
Аббас Фавзи
Тесная дружба с этим человеком связала нас с первого дня моей работы в министерстве. В комнате секретариата в одном углу стояли три стола: мой, заместителя начальника секретариата Аббаса Фавзи и переводчика министерства Абдаррахмана Шаабана. Когда наш начальник Тантауи Исмаил, знакомя меня с Аббасом Фавзи, назвал его имя, я спросил:
— Вы тот самый известный писатель?
Он ответил утвердительно, и я горячо пожал ему руку. Остальные чиновники с презрительным равнодушием наблюдали за нами.
— Ваши книги об арабской классической литературе принесли нам большую пользу, — сказал я устазу Аббасу.
— Но ведь в университете признают только дипломированных авторов.
— Ваши познания не нуждаются в подтверждении дипломами!
— Профессор Ибрагим Акль думает иначе.
Для меня, во всяком случае, присутствие устаза Аббаса в новой, неведомой мне обстановке было словно дорогим подарком. Я постоянно соприкасался с ним по службе, встречал его в салоне доктора Абд аль-Керима и в кабинете Салема Габра, а позднее в салоне Гадд Абуль Аля. Меня поражало то, что он, признанный литератор в возрасте тридцати пяти лет, все еще остается в чине чиновника шестого класса. Позднее я понял, что коллеги считают его чем-то вроде «чужеродного тела» из-за тех «благоглупостей», которые он сочиняет. Настоящий чиновник уважает только своего брата чиновника, опытного администратора и знатока инструкции. Сочинение же книг в его глазах — это своего рода чудачество, которое вовсе не к лицу уважающему себя человеку. О том, как Аббас Фавзи стал чиновником шестого класса, мне рассказали буквально следующее: он, как ему и полагалось, работал клерком в архиве — ведь у него не было даже начального образования. Однако всякий раз, как во главе министерства становился новый министр, Аббас преподносил ему в подарок собрание своих сочинений со стихотворным посвящением. Министры принимали подарок, благодарили, а он возвращался к себе в архив, и на этом все кончалось, пока министерство не возглавил, наконец, любитель литературы. Он-то и повысил Аббаса Фавзи до седьмого, а через два года до шестого класса и сделал его заместителем начальника секретариата. Устазу Аббасу были известны все эти разговоры, и на презрение чиновников он отвечал презрением. Частенько между ним и его коллегами вспыхивали перепалки, и требовалось чье-нибудь вмешательство, чтобы восстановить мир. Аббас Фавзи называл чиновников «ядовитыми насекомыми», а про людей вообще не раз говаривал: «Человек — это разумный чиновник».