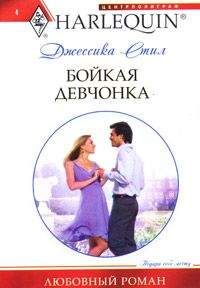Алексей Варламов - Повесть сердца (сборник)
— Не мерь всех по себе, — сказала по сему поводу бабушка, которая моего отца поняла сразу и полюбила как раз за то, что он был полной противоположностью ее гульливому супругу и привязался к ее дочери и детям настолько, насколько только может прилепиться к чему-то человеческая душа и без остатка себя отдать.
Дедушкина неприязнь к зятю не помешала бабушке щедрый подарок мужа оценить, и Купавна стала ее отдохновением и прижизненной наградой, хотя сомнительная дедова заслуга, лежащая в основании этого приобретения, по беспристрастному закону действия высших сил дала о себе мистическим образом знать много лет спустя. Но случилось это уже после смерти и бабушки, и деда, и к моему рассказу напрямую не относится.
А тогда, в 50-е, когда матушка моя была еще очень молода, легкомысленна и к земле равнодушна, она охотно предоставила бабушке возможность участком распоряжаться, и вместе со своим старшим сыном Мария Анемподистовна построила дощатый домик с террасой и стала выезжать туда на все лето с внуками, мало-помалу превращая болотистую землю в уголок большого коллективного сада, как то было записано в уставе садоводческого товарищества «Труд и отдых». Бабушка выращивала цветы, кустарники и плодовые деревья, а дядюшка — огурцы, картошку, помидоры, кабачки, чтобы никогда больше его семья не знала голода… Там, в Купавне, в волшебной местности среди озер, лесов, пшеничных полей и чистейших песчаных карьеров, прошло наше с сестрой и с двоюродными братьями и сестрами детство, там я узнал и запомнил свою бабушку, хотя жили мы вместе круглый год, и она возила меня маленького на санках в ясли, потом водила в детский сад и провожала сначала в школу, а потом в университет, но Купавна была для нас обоих дорогим и сокровенным местом, которое мы любили куда больше, чем шумную и грязную Автозаводскую улицу, и ждали каждое новое лето как счастье — так ждали когда-то лета в Болшеве Николай, Борис, Ольга, и так в бабушкиной судьбе смыкались, связывались начала и концы.
Иногда купавинская идиллия нарушалась потрясениями, как теплые летние дни перебивались непогодой, а потом все возвращалась к обыденному состоянию. Так было в середине 60-х, когда на исходе своего безумного правления ненавистник частного сектора, перерезавший все стадо на крестьянской Руси, отчего в соседней деревне стало невозможно найти молока, Никита Хрущев решил добраться и до дачников, повелев сократить площадь садовых домиков до восемнадцати квадратных метров. Как только правительственный циркуляр дошел до нашего послушного отца, он тотчас же схватился за топор и принялся рубить не умещавшуюся в метраж террасу, и то был наверное первый и последний раз, когда бабушка встала на пути у своего возлюбленного зятя и властно сказала:
— Не ты строил, не тебе и рубить!
— Слыхал ли ты об этих словах? — победно спрашивал у меня много позднее дядюшка Николай Алексеевич, указывая на сохранившиеся на косяках отцовские зарубки, когда Купавна оказалась предметом судебного разбирательства между ее наследниками, но бабушка до печальных времен, когда фамильное древо рухнуло, не дожила.
Я запомнил ее уже старой, худощавой женщиной со сгорбленной спиной, перекошенными плечами и с большим ожогом на шее — то был результат химиотерапии, после того как 59-м году у нее нашли саркому горла и подвергли облучению, а год спустя произошел рецидив, ее облучили снова еще более жестко и дважды полностью переливали кровь. До этого бабушка не болела вовсе, только температура тела у нее всегда была не 36 и 6, как у всех, а 37 градусов. Когда же жизнь детей уже не так сильно стала от нее зависеть, она надорвалась, но — уцелела, перемогла. Она была жизнелюбива до такой степени, что поражала лечивших ее и не слишком веривших в успех лечения врачей, и хотя после тяжелых радиоактивных сеансов сильно изменилась, усохла, согнулась и резко состарилась, тем не менее прожила еще два с лишним десятка лет. То были не самые трудные по сравнению с предыдущими десятилетиями годы ее осени, покойной и ясной, вознаградившей сполна и принесшей свои плоды. Есть чудная фотография: она стоит в проеме двери на крылечке купавинского дома с четырьмя внуками, и задумчивое лицо ее светится нежностью. По-прежнему она за всех переживала — и за детей, и за детей детей, и за двоюродных сестер, и за своих сватьев, ибо у всех жизнь складывалась по-разному и не везде был мир, но каждую житейскую беду и неустройство она воспринимала как собственное горе, а каждую радость как свой праздник, и эти словесные обороты не были в ее случае ничего не значащими формулами речи.
В моей семье шестнадцать человек,
Она росла как снежный ком,
А, я вступив в двадцатый век,
Им управляла, как челном,
писала она в своем «exegi monumentum», и недостаток поэтического мастерства с избытком покрывался в ней мастерством жизни и любви. Сердце ее вмещало всех и за всех болело. Она была по-своему очень счастлива — счастлива тем счастьем, которого так и не узнал ее единственный, ветреный, промотавший годы в погоне за удовольствиями и оказавшийся в конце страшно одиноким, замкнутым и сосредоточенным на своих переживаниях супруг. Недаром на меня, ребенка, дед наводил тоску, я интуитивно сторонился его и характер его приоткрылся мне лишь после смерти в рассказах его сыновей, да и тогда я, наверное, не смог свое детское ощущение преодолеть, деда понять и верно изобразить, вызвав суровую критику у прочитавшего мое сочинение дядюшки Бориса: «Тебе не удалось осмыслить, уразуметь, осознать, главное показать судьбу дворянского сына, изломанного революцией в пору великого перелома эпох… Он ярче, бодрее и оптимистичнее шел по жизни».
Может быть, и так, но оттого ли, что я увидел деда в его поздние закатные годы и знал очень поверхностно, мало, по-детски боялся и сторонился большого косматого человека, или же сказывалась во мне своя родовая честь и фамильные предрассудки, а только в моем восприятии это бабушка была открыта, щедра, свободна и житейски богата, и я знаю, что ей, в первую очередь, обязан тем, чего добился в жизни. Да и не я один — все мы в ее челне. У нее был властный и очень прямой характер, она была не слишком политична и говорила всегда то, что думала, в ней удивительным образом уживались две ревнивые и вечно ссорящиеся сестрицы — справедливость и милосердие. Но все, кто ее знал, любили ее, и, кажется, не было ни одного человека, кто мог бы сказать о ней худое, да и сама она никого не осуждала. Единственный случай на моей памяти, когда бабушка позволила себе уронить слово горькое, произошел у нее с родным братом Георгием.
О, это был удивительный человек, и тем больнее, ужаснее была их размолвка! С дядей Юрой, как и с бабушкой, были связаны самые первые, самые трогательные мои воспоминания о том, как маленького ребенка он брал меня гулять за купавинскую околицу и через него мне открывался огромный мир. Он приезжал на дачу надолго, вечерами они играли с бабушкой в девятку, обучив к неудовольствию отца, этой фамильной карточной игре и меня. Брат и сестра говорили о прошлом, о жизни дяди Юры в Туле, где он работал инженером городского транспорта (и именно благодаря Георгию Анемподистовичу Посельскому в Туле пошел трамвай), о его первой жене актрисе Вахтанговского театра Вере Сергеевне Макаровой, которой в тридцать пятом году не дали роль Ларисы в «Бесприданнице» и она тяжело после этого заболела, о несчастной судьбе их дочери Музы. Иногда они уходили в еще более отдаленные воспоминания, где воскресали из глубины времен их родители, купец Коняев, сестры, тетки, Тверь, Кашин, Томск… Увы, ничего из этих разговоров я не запомнил, а ведь дядя Юра мог рассказывать то, чего не знала даже бывшая на два года его моложе бабушка — но я слишком поздно родился, для того, чтоб то драгоценное прошлое сохранить, и как дорого дал бы теперь за то, чтоб вновь оказаться на уцелевшей от папиного топора щелястой террасе, где сидели под тусклым абажуром долгими летними вечерами два очень похожих друг на друга человека — родные брат и сестра Анемподистовичи, часами перебирали прошлое и всматривались в настоящее.
Мне теперь кажется, что именно из уст дяди Юры я впервые услыхал о каком-то одном Иване Денисовиче Солженицыне, чью книгу мой отец велел выбросить, и бабушка его послушалась, хотя самой ей та книга очень понравилась. Дядя Юра с ее поступком не согласился. Он любил слушать Би-Би-Си, был в курсе хроники текущих событий и вообще в отличие от бабушки, довольно снисходительно относившейся к коммунистам и даже по-своему гордившейся тем, что и трое ее детей и зять были членами партии, ибо это свидетельствовало об их житейском успехе, искренне переживавшей из-за того, что американцы бойкотировали московскую олимпиаду и развязали гонку вооружений, что вдохновило ее на создание целого поэтического цикла, так вот в отличие от нее дядя Юра большевиков не воспринимал, и его внутренняя, сокровенная неприязнь к ним не имела ничего общего с ненавистью ограбленного деда.