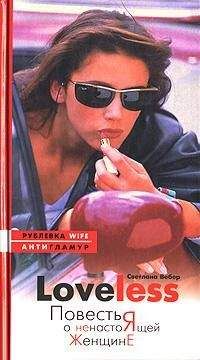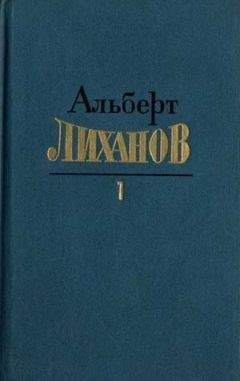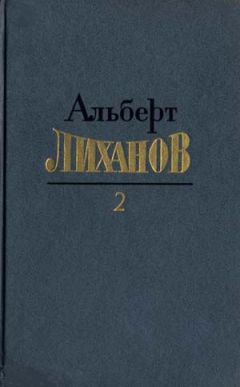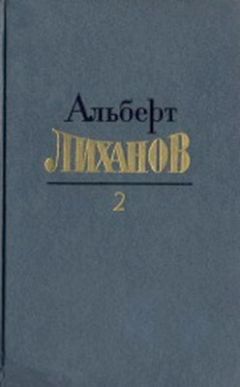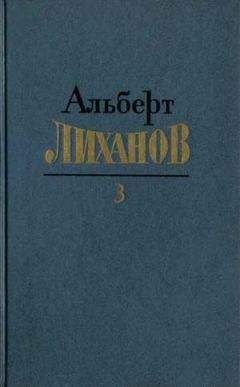Альберт Лиханов - Собрание сочинений в четырёх томах. Том 4.
Капли грохают: бэмм! Бэмм! Бэмм!
Я иду на кухню, чтобы закрутить кран, и раздается звонок. Это папа. Он улыбается. Подмигивает. Напевает песенку:
Если смерти, то мгновенной,
Если раны — небольшой.
Кричит деду:
— Ну, отец, твоя песенка и ко мне прилипла.
— Иди сюда, Сергей! — говорит дедушка из комнаты. — Знакомьтесь: мой старый товарищ.
Гость поднимается с дивана, бледнеет, губы у него дрожат, я досадую на него — ведь не сдержится, скажет или закричит еще, чего доброго. Но он трясет обеими руками папину руку, долго разглядывает его глаза, как разглядывал фотографии, улыбка блуждает на его лице — мне кажется, он может упасть, я подхожу поближе, чтобы поддержать, в случае чего.
— Вот ты каким стал! — говорит он севшим, глухим голосом.
— А что? — спрашивает папа, ни о чем не подозревая. — Вы меня раньше видели?
Гость встревоженно глядит на дедушку, тот кивает:
— Видел, видел. Мальчишкой.
— А-а… — улыбается отец. — А я вас не помню.
— Разве же упомнишь, — отвечает человек в вышитой рубашке.
Мне не терпится вывести отца в кухню, сказать, чтобы показал немедленно руки. А он говорит с гостем о разных пустяках. Рассказывает про стройку.
Дедушка поднимается, готовит на стол. Я ему не помогаю. Все придвигаются к столу, стучат стульями. Настает какая-то простая минута, словно разрядка от долгого напряжения, и мне вдруг приходит идея.
— Пап! — кричу я сам не свой. — Давай на локотки! Кто — кого?
— Ну, — смеется отец, — нашел время!
— Прошу! Прошу! — умоляю я, а дедушка и гость смотрят на меня непонимающе.
— Хорошо, — отвечает отец.
Мы ставим локти на стол, беремся кистями, и я пыхчу, стараясь повалить руку отца.
— Не жульничать! — кричит он. — Не подниматься!
Я, конечно, проигрываю, в другой раз мне было бы досадно, но сейчас не до этого.
— Еще! — кричу я, и отец снова укладывает мою руку.
— Со мной-то легко! — радуюсь я. — Вот попробуй победить дедушку!
Я смотрю выразительно на деда. Он пожимает плечами. Я делаю ему большие глаза. И он догадывается! Еще бы! Дедушка мой друг. И мы всегда понимаем друг друга! Если надо — даже без слов.
— Ну что ж! — говорит он весело и загибает рукава.
Папа закатывает их гоже.
— Ну-ка, — командую я. — Раз, два, три!
Они сражаются яростно и упорно. Дед покраснел. Конечно, у него меньше сил, чем у молодого папы. Но он опрокидывает руку отца.
— Один — ноль! — кричу я и вижу, как дедушка и гость смотрят на папину руку. Там ничего нет. Никакой родинки! Чисто!
— Другой рукой! — приказываю я, и дедушка снова побеждает.
— Два — ноль! — подпрыгиваю я. — Два — ноль!
Папа — наш! Мой, дедушкин!
СЕДОЙ ЧЕЛОВЕК
И тут мне становится грустно. И жалко.
Я называл его про себя «гость», «он», «этот человек». Я не знал, как называть иначе, потому что имя и отчество ничего не значат, когда думаешь, что, может быть, он тебе дедушка.
Я не верил, что он папин папа.
Что это может случиться — не верил, но боялся, трусил, не был уверен.
Я не верил, что он был трубачом.
Трубач был герой. А он обыкновенный.
Теперь доказано. Он не дедушка. Это просто ошибка, вот и все. Он просто гость, действительно. И я теперь согласен, пусть.
Пусть он будет трубачом. Пусть он герой на самом деле. Это ведь и заметно, не так ли? У него седая голова. Он много перенес. Да что там! Разве подходят все эти сухие выражения, чтобы сказать, какая выпала ему горькая судьба. А главное, он потерял сына, Сережу, который похож на моего отца. Что было бы, если б я потерял папу? Или дедушку? Или они потеряли меня? И мы никогда бы не встретились больше?
Мне становится стыдно, что не верил седому человеку. Он мчался на самолете, он волновался, он даже плакал, а я не хотел его понимать, даже не хотел верить.
Он сидел за столом подавленный, опустив голову. Папа и дедушка тревожно поглядывали на него, потом уложили на диван, укрыли одеялом.
Мы вышли из комнаты. Выходя, я обернулся и вздрогнул. Лицо у трубача подергивалось в каких-то судорогах.
Он то смеялся как будто. То плакал.
Мне стало жутко. Я прикрыл торопливо дверь. Он так и спал — с вечера до раннего утра. Крепко и тревожно — сразу. Утром он встал, разбитый, совсем не отдохнувший, с синими кругами возле глаз. Стал прощаться. Дед дал ему пакет.
— Здесь фотографии и письмо, — сказал он. — Все равно вы летите через Москву. Позвоните по этому телефону. Скажите, что от меня. Мой друг — генерал милиции. Он сделает экспертизу.
Гость изучающе посмотрел на деда. Ничего не сказал. Пакет взял.
Мы отправились проводить его до автобуса, который шел в аэропорт.
Возле автобуса он опустил чемодан на землю, крепко обнял деда. Сказал:
— Спасибо, добрые люди!
Влез в автобус, опустил окно. В глазах у него стояли слезы.
— Может, вы ошиблись, — ответил дедушка, — может, родинки не было. Надо до конца, понимаете! Мы с вами должны!
— Должны! — кивнул седой человек. — Должны!
Автобус зарычал, зашипел тормозами, медленно двинулся.
— Пришлю телеграмму! — крикнул он и стал махать нам рукой.
Мы махали ему в ответ. Автобус умчался уже далеко, а дедушка все держал и держал руку над головой.
Пыль от автобуса осела. На остановке было пусто. На земле валялись окурки и стаканчики из-под мороженого.
— Ответь, — сказал я деду, — зачем ты дал фотографии? Чтобы успокоить его?
Дед задумчиво разглядывал меня.
— Нет! — сказал он. — Все-таки вы счастливые!
Он помолчал:
— О войне знаете только по книжкам. И понять не можете, что такое горе.
Дедушка придвинулся ко мне, положил ладонь на плечо.
— Пусть! — сказал неожиданно. — Да, пусть! Что в этом страшного? Ничего! Напротив, это прекрасно. Зачем вам знать! Зачем мы боимся такого незнания!
Мы медленно отправились домой. И дедушка словно теперь услышал мой вопрос.
— Разве его успокоишь? — ответил он. — Ведь он человек. А человеку дана память.
Мы проходили мимо фотографии.
— Антошка! — предложил дед. — А не сфотографироваться ли нам?
Он был в генеральской форме, а я в летней рубашке с отложным воротничком.
Вы вошли в фотографию. Какой-то прилизанный человек долго смотрел на нас в забавный фотоаппарат, похожий на огромный ящик. Дедушка сел, а я встал сбоку и положил ему руку на плечо. Как на той фотографии.
— Внимание! — крикнул фотограф. — Птичка!
Мы замерли, и я едва сдержался, чтобы не расхохотаться: какая еще птичка, я же не маленький.
Я часто смотрю на эту фотографию. Она висит теперь рядом с той: молодой дед и бабушка Лида с длинной косой. Снимки и правда похожи. Только дедушка и бабушка серьезные на своей фотографии, а мы с дедом совсем наоборот. У деда глаза смеются, а я надулся, губы уже поползли — сейчас фыркну!
ТЕЛЕГРАММА
Было ли все это?
Было ли?
Седой человек в расшитой рубашке. Автобус, уходящий вдаль. Прохладное фотоателье.
Правда это или выдумка? Мираж? Сон?
Я ли был рядом с дедом? Я ли ходил, говорил, улыбался? Я ли жил беспечно и бездумно, ни о чем, ни о чем не думая?..
Дед нервничал, пока не приехал украинец, а когда он уехал, снова забеспокоился. Опять ходил по комнате. Посвистывал. Напевал. Хватался за телефон и звонил вдруг куда-то, выясняя, как переносят муравейники. Чертыхался, потому что никто не знал.
Я его отвлекал. Задавал разные вопросы.
Он отвечал впопыхах, потом бежал докапывать землю вокруг дома, вечером ругался с папой, потому что тот обещал прислать машину с молодыми деревцами, а на самом деле все оказалось болтовней…
— Что с тобой? — спрашивал папа. — Пожалуйста, успокойся! Машина будет не сегодня завтра, у нас сейчас аврал, подгоняем план. И вообще, папа! Ты на себя не похож!
Дедушка умолкал, ночью вздыхал, просил меня накапать лекарство, а я его спрашивал:
— Почему не идешь к врачу?
А он пел шепотом в ответ:
Если я заболею,
к врачам обращаться не стану.
Обращаюсь к друзьям
(не сочтите, что это в бреду):
постелите мне степь,
занавесьте мне окна туманом,
в изголовье поставьте
ночную звезду.
Я смеялся, он тоже смеялся, и я засыпал безмятежно — крепко, как убитый. Мне снилась звезда, упавшая с неба. Только совсем не такая, о какой пел дед. Звезда была хвостатая, хвост струился, переливался, как вода на перекате, я хотел ее схватить и уже притрагивался, но тут же отдергивал руку, потому что звезда была раскаленная…
Утром раздался звонок.
Я побежал открыть дверь. Дед двинулся за мной.