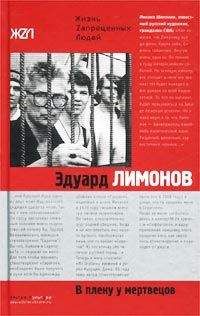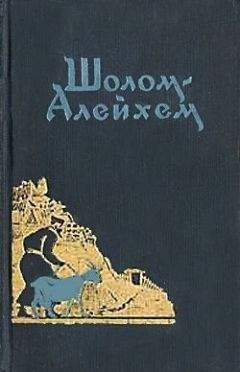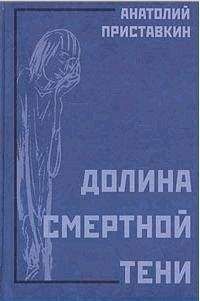Анатолий Приставкин - Рязанка
Чуть позже, как символ достатка, появился радиоприемник под названием С И-23 5. Первый советский ламповый приемник, он был гордостью нашей семьи. На него приходили смотреть соседи. Приличного размера коробка, вертикальной формы, из темно-синего дерматина. Две ручки по бокам, громкости и тона, в центре еще одна крошечная, под светящимся окошечком, ее повертишь, и в окошечке провернется барабан с цифрами: застройка. И тут же язычок рычага — длинные и короткие волны.
Приемник берегли. Вообще берегли, а от меня тем более. Его поставили на высокую полку над диваном, а накрывали кружевной накидкой. Но я при отсутствии взрослых, ясное дело, забирался на спинку дивана и оттуда ухитрялся крутить маленькую ручку, ловя эфир. Заманчиво было заглянуть в окошко, чтобы точно узнать, откуда исходит голос, но окошечко было крошечное, а приёмник высоко, так я и не смог рассмотреть говорившего.
Вся эта собственность, повторяю, кроме комода, размещалась на тех же семи метрах, но наша комната не выглядела бедно, она была украшена кружевом: и кровать, и стол, и спинка дивана, и, уж конечно, приемник, мама замечательно вручную вязала кружева! Ее работы я узнавал и через десяток лет после ее смерти в соседских домах и у дальних родственников. Сейчас я думаю, что вязание кружев не было для мамы целью как-то прикрыть нашу бедность. Да мы и не числили себя бедными! Отставленная от работы из-за болезни, а работала она ткачихой, мама как бы доказывала себе и другим, что она способна что-то делать. Не просто делать, а творить! Ибо на ее роскошные покрывала, белую пену из кружев, приходили любоваться люди и незнакомые, такое это было искусство.
Из сказанного становится понятным, что наши соседи Сютягины, у которых я украл картошку, были частниками, не уважаемыми и даже презираемыми общественно, ибо с их частнособственнической психологией в те годы все кругом насмерть боролись. Хозяйка, тетя Оля, безмужняя, с утра до вечера с двумя старшими дочерьми Шурой и Женей ишачила на огороде, зарабатывая тем, что продавала на рынке всякую зелень и картошку. А еще квашеную капусту, а еще свинину, когда резали кабанчика под Новый год. А Валька, младшенькая, моя ровесница, разносила по домам в крынках и бидонах молоко. Приносила она молоко и в наш дом.
Еще большими частниками были наши хозяева Гвоздевы. Дом, где мы жили, был их собственностью. Это открытие меня тогда прямо-таки потрясло. Все люди как люди, и даже Сютягины в своем доме не ахти какие буржуи. Большая часть Люберец состояла из таких домиков. Но этот-то дом не одноэтажный, а двухэтажный! И несмотря на это — собственный, такое в голову не могло прийти! Было у Гвоздевых и свое хозяйство со скотиной и огородом, а в какие-то времена, по-моему, была и лошадь. Телегу во дворе у них, под которой жила собака Рынька, я, во всяком случае, помню. А в саду, за железной оградой из дырчатой жести — отходы со свалки завода Ухтомского, — росли пупырчатые огурчики и красная мясистая клубника. Володька, Гвоздевский сын, поддразнивал нас, аппетитно поедая красные ягоды в то время, как мы глазели на него через дырки! Собственность, в данном случае Володькина, и оттого еще более ненавистная тем, кто ее не имел.
Был у Гвоздевых подвал, где спасались мы во время ночных тревог в сорок первом году. Запомнилось, что кроме рухляди, бутылей и корзин, хранились в том подвале картошка и яблоки, кадушки со всякими солениями, засушенные в пучках укроп и петрушка и прочие травы, подвешенные под потолком.
Я вспомнил этот подвал, когда впервые увидел погреб, вырытый моим отцом. Пройдя длинный жизненный путь, отвоевав, с начала, всю войну, отец на пенсии соорудил из обломков кирпича с ближайшей свалки домик, а потом и этот погреб. Не такой, конечно, как у Гвоздевых, поскромней, как у большинства из тех, живших полусельской полугородской жизнью в предместьях Москвы и питавших небогатый стол плодами своего труда.
Но, полагаю, путь к своему дому, своему хозяйству, начался у отца много раньше: он был сам из смоленской деревни, и от тех времен, от хозяйства отца с матерью, а то и деда, вросло ему в память, в понятие, в ту самую частнособственническую психологию, что хозяйство есть непременная принадлежность любого исправного мужика, мужчины, хозяина. Если, конечно, тот хозяин уважает свои руки и свою землю, на которой он трудится. Не может нормальный здоровый человек не иметь дома, двора, живности разной и уж, конечно, погреба, где солились бы в укропе и смородиновом листе огурчики, буроватые, толстокожие, остропахнущие помидоры, капустка шинкованная с морковью и яблоками, да и сами отдельно яблоки, налитые, золотисто-влажные, тяжелые, замоченные на меду.
Яблоки отец снимал с веток, никому не доверяя, сам, и лишь с южной стороны дерева, а каждое яблоко клал так осторожно, чтобы не могло оно побиться, иначе при мочке загниет. И вид будет не тот, и вкус.
Вот так у отца было.
Странной показалась мне мечта иметь посреди огорода прудик с карпами, не из военных ли впечатлений, побывав в Европе, он тот прудик вывез? И хватило же его вырыть такой пруд, даже стены обложить кирпичом и забетонировать. Только не стала в нем вода держаться, и пришлось отцу переделывать этот пруд в теплицу.
Был и еще опыт, из неудачных, когда завел он какую-то особую породу цыплят, а они выросли размером со страусов, сожрали весь огород, всю зелень и уж до соседей добрались! Отец рассказывал, как он вылавливал их, подползая и накидываясь, как на врага, и тут же душил, а для верности совал головой в кипяток! Он и вправду испугался, что голодная птица, одичав, заклюет однажды его самого.
Главное же, к своему личному хозяйству, то есть собственности, от которой в юности так скоропалительно бежал в город, отец вернулся не только из-за крестьянского происхождения, хотя и это существенно, и тем более не от избыточного времени пенсионера.
Многолетний опыт жизни, складывающейся драматически, сам привел отца, как и маму, к желанию узнать, почувствовать себя вне общественной сферы, которая как бы отвергала их, а тут, в домашних условиях, на своем личном участке, где человек единственно, как выяснилось, может ощущать себя хозяином.
Запомнилась мне история из давней поездки на Смоленщину, когда вместе с отцом и дядькой Викентием повезли железные кресты на могилу бабки с дедом. А случай такой. Ехали полем, и дядя Викентий попросил вдруг остановить машину. Вышел и побрел куда-то в глубину поля, чуть наискось, странным зигзагом, по видимой только ему одному бровке, потом вернулся, и мы поехали дальше. И уж после долгого молчания он произнес, что здесь, (здесь!) была его земля. Пятьдесят лет прошло, помнил! И бровку помнил, которой нет, В ту давнюю пору из-за этого клочка земли да лошади он «вышел замуж», то есть ушел в примаки, взял фамилию жены. А потом попал под раскулачивание, сбежал в Смоленск и проработал тридцать молчаливых лет, до пенсии, чистильщиком паровозных котлов. А когда я, в недавние уже времена, где-то в книжке об этом рассказал, дядя при встрече незлобно упрекнул меня, что де, вот, раскрыл тайну его раскулачивания и бегства, а не придут ли, да не вспомнят ли ему нынче давние грехи!
До чего же надо напугать мужика, что и через полсотни лет, тоскуя по несуществующему ныне клочку своей земли (ясно же, что это за клочок, если обошел за десять минут!), он затаивался, скрывая свое мужицкое происхождение.
А что касается часов, отец их повесил в новом доме рядом с немецкой литографией: прекрасная золотокудрая фрау, повернувшись к нам спиной, возлежит на скале, на фоне лесистых Альп.
Дежурная шутка отца: «Повернись же!» Это он ей, в подпитии, когда хочет показать, какой он еще ого-го! Бабник! «Ну повернись!» — кричит ей. А я все не могу отвести глаз от часов. То, что они проходили до меня сто лет, как-то мало ощутимо, а вот что я помню их, сколько помню себя, и что знаю тайну их боя, это уже серьезно. И это волнует.
Догадавшись, что часы меня волнуют, отец достает какой-то медный механизм и громко, почти крича, поясняет, что это запасная к часам пружина. Конечно, и старая еще работает, сто лет как работает, но когда она выйдет из строя, то вот! Он от других таких часов достал! Еще, значит, на сто лет!
Я киваю. Сроки для меня необъяснимые, недоступные для ощущения. Но отцу почему-то механизм запасной нужен. Он сам похож на эту пружину: сто лет стучит без отдыха.
На своем участке он живет по часам: встает в пять, ложится с темнотой. Уже в апреле у него загорелое лицо и шея. И с детства памятно: открываю глаза, маятник отсчитывает шестой час, сладко спать, самый сон, а на дворе отцовский топор стучит: тюк да тюк.
Такие вот часы.
А в деревне на Смоленщине особенно от отца досталось дальнему родственнику Мишке, у которого мы остановились. Отец прямо-таки затюкал его своими разговорами о земле, отчего, мол, он, первый человек на селе, у которого и трактор-то ночует у дома, не хочет запахать лишних несколько соток из огорода, чтобы посадить поболе картошки? Отчего не расчистит болотце за домом да не сделает купальню? Отчего, отчего… Вот в прошлый год отец, погостевав у Мишки во время отпуска, сколотил наполовину баню на огороде, а Мишка ту баню взял зимой да спалил, разобрал на дрова. Все ближе, чем везти из леса. Хоть тот лес начинался от порога.