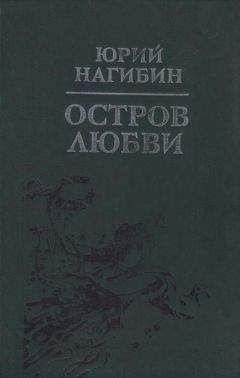Юрий Нагибин - Любовь вождей
Дожевывая свою жвачку, он достал из нагрудного кармана пожелтевший газетный лист с портретом Сталина. То был старый номер «Франкфуртер цайтунг» дней безмятежной дружбы, наставшей после приезда Молотова в Берлин. Ева вспомнила, что Молотов щеголял в белых лайковых перчатках, которые были ему велики и непривычны; с этими белыми лапами он напоминал метерлинковского Кота из «Синей птицы», фальшиво ласкового, но готового зашипеть.
— Он, наверное, постарел, — говорил Гитлер, любовно вглядываясь в портрет Сталина. — Год войны идет за три. А ведь мы похожи. У него усы, у меня усы, он бреет подбородок, я брею…
— У него нос, у тебя нос! — подхватила Ева Браун. — Ты устал, Адольф, тебе надо отдохнуть.
— Где тут отдыхать? Русские у стен Берлина, а ничего не готово к их приходу.
— Не завезены цветы? Не выучены приветственные речи?
— Ха-ха, — сказал Гитлер. — Надо подготовить город к уличным боям, все заминировать, что-то взорвать.
— А не лучше ли просто сдать город, без лишних жертв?
Он замахал руками:
— Господь с тобой! Сталин будет разочарован, если не положит еще полмиллиона человек. Я хочу до конца оставаться хорошим спарринг-партнером. Этого требует моя честь.
— А не требует твоя честь узаконить перед концом наши отношения?
— Что ты имеешь в виду? — скучным голосом спросил Гитлер, возбуждение его погасло, и взгляд потускнел. — И что незаконного в наших отношениях?
— Если бы ты читал Библию, то знал бы: Фамарь пошла за Иудой, братом Иосифа Прекрасного, желая попасть в историю. Я в нее попаду независимо от моего желания: мы столько лет неразлучны. Но я хочу войти в нее с гордо поднятой головой, как твоя жена. Я величайшая актриса Германии, а не театральная дива.
— Фи, Ева, откуда такая вульгарность?.. В историю пускают не по паспорту.
— Вот ты и попался! Истории всегда нужен документ. Она отвергает любую реальность, если та не подтверждена записью летописца или круглой печатью современности.
— Но я не чувствую себя готовым к браку, — вяло сопротивлялся Гитлер.
— За годы нашей связи ты вполне мог подготовиться.
— К чему такая спешка?
— К тому, что твой лучший ученик не даст нам отсрочки. Я столько ждала, могла бы еще подождать, но мы исчерпали наше время.
— Это правда, — вздохнул Гитлер, но как-то беспечально. Еву в который раз поразила его способность подчиняться — безоговорочно, с полным самообладанием — принятому решению. Он подписал смертный приговор себе и ей и отбросил всякие волнения по этому поводу: предстоящее стало оправданной жизненной необходимостью, и нечего рефлексировать. Точно так же поступал он во всех остальных случаях: принято — к исполнению! Но по поводу их брака он никаких решений не принимал. И уж подавно не было прямого обещания, хотя она неоднократно давала ему понять, что не ждет иного от его рыцарственной натуры. И вот он мямлит, юлит, жениться ему явно не хочется. Господи, да чему это мешает, если на безымянном пальце, когда рука потянется за чашей с ядом, будет обручальное кольцо? Вот для нее в этом золотом ободочке весь смысл прожитой жизни, ее честь и слава. А вдруг он был женат в пору своей беспутной молодости и брак для него невозможен? Неужели судьба решила так жестоко посмеяться над ней?
— Я девственник, Ева, — пробормотал фюрер.
— Не бойся, — с глубоким облегчением сказала Ева, — это совсем не больно.
— Ну, если ты так настаиваешь…
Не дав ему докончить, она склонилась в старинном поклоне-подседе и голосом ёмче органа, голосом, вобравшим мощь чувства всех Иокаст, Медей, Федр, Брунгильд, при этом ничуть не напрягая связок, качнула хрустальные подвески люстры:
— Я принимаю ваше предложение, мой фюрер!..
Свадьбу сыграли по-домашнему, таково было категорическое требование Гитлера. Еве хотелось пышно и торжественно отпраздновать свой триумф, но, помимо нежелания фюрера, этому препятствовали объективные обстоятельства: в Берлине не оставалось ни одного зала, пригодного для свадебного торжества, да и носа на улицу не высунуть. Вот и остались в бункере, в тесном кругу испытанных друзей. Открыли шампанское, большую банку со сталинской икрой. Кальтенбруннер, отличный пианист, сыграл «Лунную сонату»; Геббельс читал из Ленау и Гельдерлина, потом показывал карточные фокусы; генерал-полковник Йодль спел тирольский йодль, у него оказалась поразительная фиоритура; Ева прочла последний монолог Медеи. Когда же шампанское ударило в голову, Заукель стал сыпать уморительными еврейскими анекдотами о показательном лагере Аусшвитце. Гитлер оставался тих и задумчив.
С обычными послесвадебными шуточками гости наконец разошлись по своим бункерам. Гитлер обвел глазами опустевшую комнату, наполненную табачным дымом, запахами еды и вина, и сказал с отрешенным выражением:
— А Сталин так одинок!..
— Вот и женился бы на нем, — съязвила Ева. Став законной женой, она уже не считала нужным скрупулезно подгонять свои часы под часы фюрера.
Гитлер оторопело посмотрел на нее и промолчал.
Человеконенавистник Луи Селин с присущим ему цинизмом осрамил таинство первой ночи: «Гости ушли, и новобрачные остались одни, чтобы заняться гадостями». Наступила эта минута и для обреченных молодоженов под землей сотрясаемого взрывами Берлина.
— Наконец-то мы остались одни, — сказала Ева после тщетной попытки найти свежие слова для столь значительного и поэтичного события.
Теперь каждое ее слово, движение, жест прямиком попадали в историю, это требовало продуманности, собранности и осмотрительности. А фраза получилась мещански нищей и даже смешной, поскольку в блаженное одиночество любящих, как нарочно, вторгся третий: близкий разрыв советской бомбы, от которого треснул потолок, посыпалась известка, закачалась и погасла люстра. Свет почти сразу загорелся, хотя и вполнакала. Так даже лучше, подумала Ева Браун, чья изобильная плоть не стала юнее и свежее в годах ожидания возле фюрера. И еще она дала себе слово найти более удачную фразу для дневника, который давно вела, оставив за собой выбор сохранить его для потомства или предать огню.
Отвернувшись, она освободилась от белого воздушного платья, напоминающего греческую тунику, стянула ажурные чулки и ловко, одним движением гибко занесенной за спину руки, распустила молнию на грации — матерчато-резиновом доспехе; уронив ее на пол, как хорошо послуживший на турнире панцирь, она наградила фюрера ослепительным видением обнаженной спины и ягодиц и скользнула под пуховое одеяло.
Гитлер, словно не заметив этих маневров, отрешенно стоял посреди бункера, то ли погруженный в раздумья, то ли ошеломленный бомбовым взрывом.
— Адольф! — позвала Ева.
— Да? — очнулся Гитлер и посмотрел на нее.
— Что же ты не ложишься?
— Ах да…
Он расстегнул мундир и повесил на спинку стула. Рука его неуверенно затеребила брючный ремень.
— Может, ты отвернешься? — сказал он застенчиво.
— Я твоя жена, Адольф. — И Ева отбросила одеяло, представ взору избранника во всей царственной наготе.
Ева знала, что в лежачем положении, с ладонями, несущими тяжесть грудей, белотелая и гладкая, она выглядит весьма убедительно.
Гитлер присел на край кровати, ловко стянул сапоги, снял брюки и остался в егерском, мышиного цвета, белье. В таком виде он хотел возлечь рядом с Евой и уже потянул на себя одеяло.
— Мышонок ты мой! — ласково пожурила она. — Ты же не в казарме. Надо снять все.
— Да, да! — С торопливым послушанием Гитлер освободился от рубашки и кальсон.
В большой и сложной жизни Евы Браун было немало потрясений, кризисов, падений и взлетов, провалов и нежданных спасений, она не один раз, а множество проходила огонь, воду и медные трубы, но ничего подобного не испытывала. Какой-то задушенный крик умер у нее в груди, и ощутилось томящее, ознобливое перетекание субстанции жизни внутри организма, а может, это душа отслаивалась от плоти?..
У фюрера ничего не было. То есть вовсе ничего, гладкое место, как у тех резиновых голышей, которых кидают младенцам в ванну, чтобы те тискали их, теребили, кусали за голову и не замечали проникающую в зажмуренные глазки мыльную пену. «А если он ангел?..» — пронеслось в смятенном мозгу женщины.
Пригвожденный к месту ее диким взглядом, Гитлер застыл с растерянной полуулыбкой, вроде бы чувствуя какую-то свою вину и не понимая, в чем она состоит.
Ева Браун недаром была испытана во всех страстях: подлинных и мнимых. Она столько раз пронзала на сцене собственную грудь, убивала своих детей, возлюбленных и мужей, кровосмесительствовала, губила душу, проваливалась в ад, что натренировала характер, как чемпион-тяжелоатлет — мускулы. «Спокойно, спокойно, — твердила она себе. — Величайшие люди оплачивали свое избранничество неладами с полом: Христос был андрогином, Сафо — лесбийкой, Леонардо — идеальным гомосексуалистом, Микеланджело и Шекспир — материальными, Челлини насиловал малолеток, Кант мастурбировал, Гоголь был бесполым, и Ницше бесполым, к тому же сифилитиком, Чайковский, Пруст, Уайльд и Андре Жид — воинствующими мужеложцами, Пикассо — садист, Сальвадор Дали — половой маньяк. Фюрер в своей обобранности по крайней мере безгрешен, как младенец». Ева справилась с шоком и попыталась взять под контроль ситуацию.