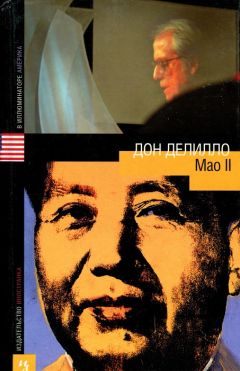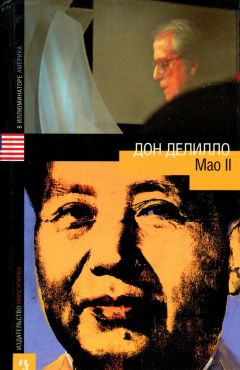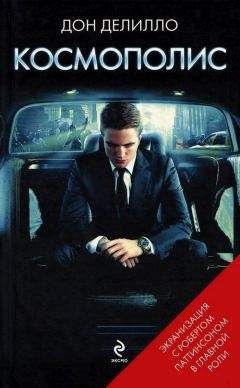Дон Делилло - Падающий
Шагая по ярко освещенному залу между полок, он тысячу раз в секунду успевает подумать о том, что грядет. Чисто выбритый, на видеозаписи, проходящий через рамку детектора. Девушка на кассе перекатывает по сканеру банку с консервированным супом, и он думает, чего бы такого забавного сказать, сначала произносит про себя, чтобы не перепутать порядок слов.
Он смотрел поверх саманных хижин на горы. Черный капюшон и жилет с взрывчаткой. Мы готовы умереть, а они — нет. В этом наша сила: возлюбить смерть, почувствовать, как предъявляет на нас права мученическая смерть с оружием в руках. Он стоял вместе с другими на бывшем русском медном руднике, где теперь лагерь афганцев, их собственный лагерь, и они слушали голос, усиленный колонками, зовущий с той стороны равнины.
Жилет был из голубого нейлона, с лямками крест-накрест. В пояс вшиты контейнеры с мощной взрывчаткой. Высоко на груди — плитки пластита. Метод другой — не тот, который однажды применят он и его братья, но взгляд на небеса и ад, на месть и истребление — тот же. Они стояли и слушали записанное на пленку объявление — зов на молитву.
Теперь он сидит в кресле в парикмахерской, закутанный в полосатую накидку. Парикмахер щуплый, неразговорчивый. По радио — новости, погода, спорт, пробки. Хаммад не слушает. Снова размышляет, глядя мимо лица в зеркале — все равно это вовсе не он, — и ждет наступающего дня, безоблачного неба, слабых ветров, когда размышлять станет уже не о чем.
Часть третья
Дэвид Джениэк
Они прошли пешком от старта до финиша: двадцать кварталов на север, затем на поперечную улицу, а потом свернули на юг и до самой Юнион-сквер, примерно две мили в потогонный зной, вместе с полицейскими в касках и бронежилетах, малышей родители несли на закорках. Шли по мостовой — они и еще полмиллиона: пестрый человеческий рой от тротуара до тротуара, плакаты и транспаранты, футболки с надписями, гробы, задрапированные черной тканью; марш против войны, против президента и его курса.
Органы чувств перегружены впечатлениями — но тем острее она ощущает, как от всего этого далека. В небе прострекотали полицейские вертолеты, на перекрестке стояли шеренгой какие-то мужчины: скандировали лозунги, ругали демонстрантов.
Джастин взял буклет у женщины в черной шали. Руки у нее были разрисованы хной, взгляд, устремленный в пространство, ускользал от чужих взглядов. Люди останавливались поглазеть на платформу, где что-то горело: фигура из папье-маше; толпа уплотнялась, возник затор. Она попыталась взять мальчика за руку — но какое там, прошли те времена. Ему десять лет, он хочет пить: мальчик отстранился, пробрался сквозь толпу на другую сторону улицы, где торговали газировкой, прямо из ящиков. Неподалеку дежурили полицейские — человек двенадцать, заняли позицию у строительных лесов, затянутых красной сеткой. Здесь они придержат чересчур пылких и неуправляемых.
К ней подошел какой-то мужчина, вразвалочку вышел из толпы: чернокожий, прижимает руку к сердцу. И сказал:
— У Чарли Паркера сегодня день рождения.
Поглядел куда-то в ее сторону, но не на нее, мимо, потом отошел и сказал то же самое мужчине в футболке с «пацификом», и в его укоризненном тоне она уловила намек, что все эти люди, все полмиллиона в кроссовках, панамах и одежде с символическими изображениями — дураки набитые: в жару и духоту собрались ради какой-то непонятной цели, хотя могли бы высыпать на улицу такими же полчищами по серьезному поводу — помянуть Чарли Паркера в день его рождения.
Будь здесь ее отец — Джек, — он бы, скорее всего, согласился с этим мужчиной. Ничего не поделаешь: между ней и ними ощущается дистанция, прогал. Эта толпа не воскрешала в ней чувства сопричастности. Она здесь ради мальчика: пусть окунется в гущу инакомыслия, увидит, услышит, почувствует доводы против войны и произвола. Ей же самой хотелось только одного — отойти в сторону. За три истекших года, с того сентябрьского дня, частной жизни не стало — вся жизнь публична. Раненое общество взывает многоголосно, и его ропот нашептывает тебе полуночные мысли, когда остаешься наедине с собой. Ее вполне устраивал тихий, втиснутый в узкие рамки распорядок, которому она в последнее время подчиняла свою жизнь: планировать день за днем, продумывать детали, ни во что не ввязываться, держаться поодаль. Стряхнуть с себя гнев и предчувствия. Стряхнуть ночи, которые кружат по нескончаемым бессонным циклам самоедства. Теперь, среди демонстрантов, она глядела, точно издалека, на картонные гробы и транспаранты на палках, на конную полицию, на анархистов, швыряющих бутылки. Это так, ритуальные пляски, через миг — как ветром сдует.
Мальчик обернулся, уставился на того мужчину, который протискивался сквозь толпу и время от времени останавливался повторить свое объявление.
— Джазовый музыкант, — пояснила она. — Чарли Паркер. Умер лет сорок-пятьдесят назад. Дома я тебе найду какие-нибудь старые долгоиграющие пластинки. Диски-гиганты. Чарли Паркер. По прозвищу «Птица». Почему, не спрашивай. Нет, не спрашивай «Почему не спрашивать?» — я просто не знаю. Найду пластинки, и послушаем. Но ты мне напомни. А то забуду.
Мальчик набрал еще буклетов. На периферии марша стояли люди, раздававшие материалы в защиту мира, справедливости, предварительной регистрации избирателей, каких-то параноидальных правдоискательских акций. Он изучал листовки на ходу, крутя головой, чтобы видеть и демонстрантов вокруг, и печатное слово в руках.
— Оплачьте погибших. Вылечите раненых. Прекратите войну.
— Не перенапрягайся. Иди себе, почитать еще успеешь.
— Ага, конечно, — сказал он.
— Если ты пытаешься совместить прочитанное с увиденным — не факт, что они совместимы.
— Ага, конечно, — сказал он.
Новая привычка: на любую реплику отвечать снисходительно «ага, конечно». Она подтолкнула мальчика к тротуару, и он выпил содовую в тени, прислонившись к стене дома. Заметила, что он мало-помалу сползает по стене — демонстративно, дает ей понять, как устал от жары и долгого марша. Но не то чтобы протестует — скорее разыгрывает спектакль.
Наконец он опустился на корточки: крохотный сумоист. Занялся буклетами, один рассматривал несколько минут. Она увидела наверху страницы слово «Ислам» и телефон с кодом 800 [23]. Наверно, этот буклет он взял у женщины в черном платке. Она увидела слова, набранные полужирным шрифтом, с пояснениями.
Мимо промаршировали пожилые женщины, распевая старую песню протеста.
Он сказал:
— Хадж.
— Да.
Он сказал:
— Шахада. [24]
— Да.
— Нет бога, кроме Аллаха, и Мухаммед — пророк Его.
— Да.
Он снова произнес фразу, медленно, более сосредоточенно, словно приближая к себе, пытаясь раскусить. Рядом стояли или брели люди: демонстранты, свернувшие на тротуар.
Теперь он прочел фразу по-арабски. Прочел вслух, а она пояснила, что фраза на арабском, в английской транскрипции. Но даже это для нее было чересчур: несколько минут в тени наедине с сыном, — даже тут становилось не по себе. Он прочел пояснение к другому слову — мол, так называется ежегодный обязательный пост в месяц рамадан. Это напомнило ей что-то знакомое. Он продолжал читать, в основном про себя, иногда вслух, протягивая буклет и дожидаясь, пока она его возьмет, когда ему не удавалось произнести слово самостоятельно. Это повторилось два или три раза, а в промежутках ей почему-то вспоминался Каир: лет двадцать назад, память удержала только расплывчатые тени, и среди теней она сама, выходящая из туристического автобуса прямо в безбрежную толпу.
Поездку ей подарили, на окончание университета, они с однокурсницей ехали в автобусе, а потом сошли в гущу какого-то праздника. Толпа была достаточно велика, чтобы в любой точке казалось, будто ты в самой середине. Под косыми вечерними лучами плотный людской поток повлек их мимо ларьков и лотков с едой; не прошло и полминуты, как подруги разлучились. Кроме ощущения беспомощности, она испытала и другое чувство — острее ощутила свою самость в сравнении с другими, тысячами других, доброжелательными, но теснившими ее со всех сторон. Те, кто рядом, видели ее, улыбались — не все, некоторые, — заговаривали с ней — один или двое, и она была вынуждена смотреться в толпу, как в зеркало. Становилась такой, какой виделась этим людям. Ощутила свою внешность: лицо, черты лица, цвет кожи — я белая, белая по сути, белая по состоянию души. На самом деле все не так, и тем не менее — да, я именно что белая, почему нет. Она — обласканный судьбой, рассеянный, зацикленный на себе белый человек. У нее все это на лице написано: интеллектуальном, неискушенном, испуганном. Она почувствовала, сколько горькой правды в стереотипах. У толпы был талант — талант быть толпой. В этом таланте — высшая истина этих людей. Они в своей стихии, подумала она, когда находятся в волне тел, в плотном скопище. Толпиться — уже религия, а праздник — лишь предлог для ее обрядов. Она подумала о том, как толпы поддаются панике, скапливаются у края обрыва. То были мысли белого человека, обработка данных о панике белых. Других такие мысли не посещали. А Дебру посещали — ее подругу, ее пропавшего двойника, Дебру, которая где-то здесь и тоже ощущает себя белой. Она попыталась поискать глазами Дебру, но куда там: трудно пошевелить плечами в давке, развернуться. Они обе в центре толпы, и они сами — центр, каждая для себя. С ней заговаривали. Один старик угостил сладостями и сказал, как называется праздник и по какому он случаю: последний день рамадана. На этом воспоминание обрывалось.