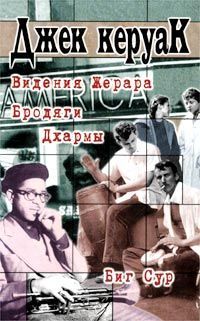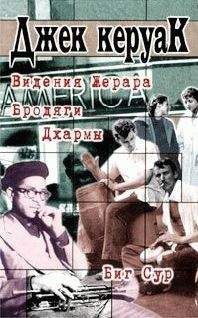Джек Керуак - Бродяги Дхармы
— Чтобы быть как бхикку, сам знаешь, как об этом в сутрах.
— Но что о тебе люди думали, когда ты останавливал машины с лысой головой?
— Они думали, что я псих, но всем, кто меня подвозил, я втулял про Дхарму, парень, и оставлял их просветленными.
— Мне тоже надо было так делать по пути сюда… Я должен еще рассказать тебе про мою сухую балку в горах.
— Погоди-погоди, и вот они ставят меня наблюдать за Кратерной горой, но снег на высокогорьях в тот год был таким глубоким, что я сначала целый месяц пробивал тропу в ущелье Гранитного ручья, ты сам все эти места увидишь, а потом с целым караваном мулов мы делали последние семь миль по петлявшей тибетской горной тропе над линией лесов, по снежным полям к последним зазубренным пикам, а потом лезли наверх по утесам в буран, и я открыл свое зимовье и приготовил себе первый обед, а снаружи выл ветер, и внутри на двух наветренных стенах нарастал лед. Вот погоди только, и ты туда сам доберешься. В тот год на Опустошении сидел Джек Джозеф — там, где ты будешь.
— Что за имя — «Опустошение», о-оо, ух, уф, постой…
— Он был там, наверху, первым наблюдателем, я первым же делом вызвал его по радио, и он пригласил меня в общину наблюдателей. Позже я связывался с другими горами — понимаешь, тебе дают двустороннюю рацию, это почти что ритуал — когда все наблюдатели там болтают, рассказывают о медведях, которых видели, или иногда спрашивают, как печь сдобу на печке, и так далее, и вот все мы, вознесенные так высоко над миром, сидим и переговариваемся в эфире через сотни миль глухомани. Там, куда ты едешь, парень, — первобытная местность. Из моего зимовья, когда стемнеет, я видел лампу на Опустошении — Джек Джозеф читал там свои книги по геологии, а днем мы мигали друг другу зеркалами, чтобы выверить по компасу пожарные азимуты.
— Эх-х, как же я всему этому научусь, я ведь простой бродячий поэт?..
— Да научишься: магнитный полюс, Полярная звезда да северное сияние. Каждый вечер мы с Джеком Джозефом разговаривали: однажды к нему на пост залетел целый рой божьих коровок — облепили ему всю крышу и набились в цистерну для воды, еще как-то он пошел прогуляться по хребту и наступил прямо на спящую медведицу.
— Ого, а я-то думал, здесь тоже глушь…
— Да это все игрушки… А когда подходила гроза с молниями, все ближе и ближе, он вызвал меня и сказал, что отключается, потому что с радио слишком опасно, и его не стало ни слышно, ни видно, потому что навалились черные тучи, и на его холме затанцевали молнии. Но лето шло, и пик Опустошения весь подсох и расцвел, и он стал бродить по утесам с блейковскими ягнятами, а я сидел на Кратерной горе в одних плавках и сапогах, выискивал гнезда куропаток — просто так, из любопытства, — везде карабкался и лазил, меня жалили пчелы… Опустошение — это далеко наверху, Рэй, шесть тысяч футов или около того, смотрит прямо на Канаду и Челанские нагорья, на леса хребта Пикетт и на горы типа Вызывающей, Ужаса, Ярости, Отчаянья, а твой хребет будет называться хребет Голода, а вглубь страны к югу пойдет хребет с Бостонским пиком и пиком Бакнер — тысячи миль одних гор, олени, медведи, кролики, ястребы, форель, бурундуки. Тебе там будет клево, Рэй.
— Да я и так этого жду. Меня-то уж пчелы точно жалить не станут.
Потом он вытащил свои книги, немного почитал, я тоже почитал, причем мы зажгли себе отдельные керосинки, низко прикрутив пламя: спокойный вечер дома, а снаружи ревет в деревьях ветер, гонит туман, а на той стороне долины скорбный мул испускает самое душераздирающее ржание, которое я когда-либо слышал.
— Когда этот мул вот так рыдает, — сказал Джафи, — мне хочется молиться за все разумные существа. — Потом он немного помедитировал, сидя неподвижно в полной позе лотоса на своей циновке, а затем произнес: — Ну, пора спать. — Но я ведь хотел рассказать ему все, что открыл для себя зимой, медитируя в лесах. — Ах, да это всего лишь множество слов, — сказал он печально, чем немало удивил меня. — Я и слышать не хочу все твои словесные описания слов, слов, слов, которые ты сочинял всю зиму, чувак, я хочу просветляться действиями. — Джафи к тому же сильно изменился с прошлого года. У него больше не было тощей бороденки, вместе с которой исчезло и это смешное веселое выражение лица — оно осталось просто изможденным и каменным. Еще он коротко подстригся, стал выглядеть по-германски сурово, а более всего — печально. Теперь в его лице, казалось, читалось какое-то разочарование, а в его душе оно поселилось уж наверняка; он не хотел слушать моих пылких объяснений, что все в порядке навсегда, навсегда и навсегда. Внезапно он произнес: — Я, наверное, скоро соберусь жениться, я устаю вот так вот порхать.
— А я думал, ты обнаружил свой дзэнский идеал бедности и свободы.
— Ай, да может, я устаю как раз от всего этого. После того, как я вернусь из монастыря в Японии, с меня, может, уже будет довольно. Может, я стану богатым, буду работать и заработаю кучу денег, и буду жить в большом доме. — Но еще через минуту: — А хотя кому охота становиться рабом всего этого? Не знаю, Смит, просто у меня депрессия, и все, что ты говоришь, только угнетает меня еще сильнее. Знаешь, моя сестра вернулась.
— А кто она?
— Рода, сестренка моя, мы с нею выросли в орегонских лесах. Она собирается замуж за этого богатого мудака из Чикаго — самый настоящий квадрат. У моего отца тоже нелады с сестрой, с моей тетушкой Носс. Она еще та стерва.
— Тебе не надо было срезать бородку, ты раньше был похож на маленького счастливого мудреца.
— Ну что ж, я больше не маленький счастливый мудрец и я устал. — Он весь выдохся после тяжелого дня работы. Мы решили лечь спать и про все забыть. На самом деле, нам было немного грустно, и мы обиделись друг на друга. Днем я подыскал себе местечко под кустом диких роз во дворе, где собирался расстелить спальный мешок. Я на целый фут завалил этот пятачок свежесорванной травой. Теперь же, с фонариком и бутылкой воды из кухонного крана, я вышел наружу и свернулся в прекрасный ночной отдых под вздыхавшими деревьями, сначала немножко помедитировав. Я больше не мог медитировать в помещении, как это только что делал Джафи: проведя всю эту зиму в ночных лесах, я должен был слышать крошечные звуки животных и птиц, ощущать холодные вздохи земли под собою — прежде чем по праву почувствовать сродство со всем живым: пустым, пробужденным и уже спасенным. Я молился о Джафи: похоже, он менялся к худшему. На заре дождик стал похлопывать меня по спальнику, и вместо того, чтобы подстелить пончо, я накрылся им сверху и спал себе дальше. В семь утра выглянуло солнце, в цветках роз у моей головы появились бабочки, прямо ко мне, посвистывая, реактивно нырнула колибри и, счастливая, унеслась прочь. Но я ошибся насчет перемены в Джафи. Это было одно из самых замечательных утр в нашей жизни. Он стоял в дверях избушки со сковородкой в руке, колотил по ней и монотонно пел:
— Буддхам саранам гоччами… Дхаммам саранам гоччами… Сангхам саранам гоччами… — И вопил: — Давай, парень, твои оладьи уже готовы! Вставай есть! Бам бам бам! — И оранжевый свет лился сквозь сосны, и все сновра было четко; на самом деле, Джафи поразмышлял в ту ночь и решил, что я прав, прорубаясь к старой доброй Дхарме.
25
Джафи приготовил хорошие гречишные оладьи, мы к ним добавили сиропа «Бревенчатая Хижина» и немного масла. Я спросил его, что означает пение «Гоччами».
— Это поют перед тремя приемами пищи в буддистских монастырях в Японии. Это означает: «Буддхам Саранам Гоччами» — я ищу укрытия в Будде, «Сангхам» — я ищу укрытия в церкви, «Дхаммам» — я ищу укрытия в Дхарме, в истине. Завтра утром я приготовлю тебе еще один славный завтрак — хлёбово, ты когда-нибудь ел старомодное доброе хлёбово, парень, это всего лишь омлет, перемешанный с картошкой.
— Это еда дровосеков?
— Нет такой вещи, как «дровосеки» — это, должно быть, восточное выражение. Мы здесь зовем их лесорубами. Давай, ешь свои оладьи, мы сейчас спустимся и будем расклинивать кряжи, я покажу тебе, как обращаться с двойным топором. — Он вытащил топор, наточил его и показал мне, как это надо делать. — И никогда не бей этим топором по куску дерева, если тот лежит на земле: попадешь по камню и затупишь, всегда подкладывай бревно или что-нибудь.
Я вышел в уборную и, возвращаясь, захотел застать Джафи врасплох дзэнским трюком и кинул в раскрытое окно рулончик туалетной бумаги, а он испустил громогласный самурайский клич и возник на подоконнике в одних сапогах и шортах, с тесаком в руке, и прыгнул на пятнадцать футов во двор, заваленный поленьями. Сумасшедший. Мы двинулись вниз в приподнятом настроении. Во всех раскряжеванных колодах уже были большие или маленькие трещины, куда можно было вставить тяжелый железный клин, а потом ты поднимал над головой пятифунтовую кувалду и, немного отступив, чтобы не попасть себе по ноге, со звоном бил ею по клину — конко! — и кряж аккуратно раскалывался напополам. Потом устанавливал эти полукруглые чурбаны на колоде и разрубал их двойным топором — прекрасным, на длинной рукояти, острым, как бритва, — и фавап! — у тебя уже были четвертушки. Потом устанавливал четвертушки и превращал их в осьмушки. Джафи показал мне, как замахиваться кувалдой и топором — не слишком сильно, — но я заметил, что когда он расходился, то сам махал топором изо всех сил и либо ревел своим знаменитым кличем, либо матерился. Довольно быстро я приноровился и работал так, словно занимался этим всю жизнь.