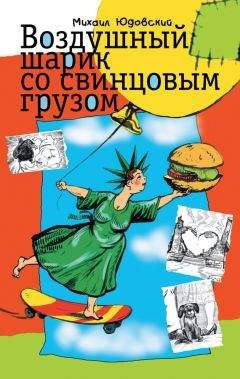Сволочь - Юдовский Михаил Борисович
— Очень жаль, что ничего личного. Я, собственно, вот почему звоню. Я в твоем номере тогда губную помаду не забыла?
— Что не забыла? — изумился я.
— Губную помаду.
Я с шумом выдохнул.
— Тася, — сказал я, — дай мне свой адрес.
— Зачем?
— Надо.
Тася продиктовала мне адрес — где-то на Борщаговке. Я вышел из квартиры, зашел в галантерейный магазин, купил тюбик губной помады, поймал такси и поехал на Борщаговку. Там я нашел Тасину улицу, дом, квартиру и позвонил в дверь. Тася открыла. На ней были домашний халатик и шлепанцы.
— Привет, — сказал я. — Ты одна?
— Одна, — ответила она. — Проходи. Майкл, ты не представляешь себе, как я…
— Я на минутку, — покачал головой я. — Держи.
И протянул ей тюбик с помадой.
— Что это?
— Помада. Смотри, не забывай ее нигде.
Я развернулся, чтобы уйти.
— Майкл, подожди! — Тася ухватила меня за рукав.
— Что?
— Майкл, я совсем одна осталась. С Лесей мы поругались.
— Из-за чего?
— Из-за кого. Из-за тебя, конечно.
— Зря.
— Нет, не зря. Я даже рада. Она ведь и в самом деле мной. Как бы это сказать.
— Помыкала.
— Именно. Мне без нее даже лучше.
— Вот видишь, хоть одно доброе дело я сделал.
— Да, мне лучше, но не легче. Майкл, не бросай меня совсем.
— Я не Майкл, — сказал я. — Я Миша.
— Это одно и то же.
— Это не одно и то же. Я не американец. Мы с Яриком обманули вас. И всех остальных тоже.
— Зачем?
— Долго рассказывать. Главное, что никакого Майкла нет. А с Мишей ты не знакома.
— Знакома.
— Нет. Но дело даже не в этом. Помнишь, ты говорила, что привязываешься долго, а потом не можешь расстаться.
— Помню.
— Так вот, не надо ко мне привязываться. Потому что однажды я улечу и не вернусь. И если ты успеешь ко мне привязаться, тебе будет больно по-настоящему. А я этого не хочу. Прощай.
Я развернулся и зашагал вниз по лестнице.
— А ты? — догнал меня Тасин голос.
Я остановился.
— Что я?
— Как ты дальше будешь?
— По наитию, — сказал я. — По наитию, Тасенька.
Я зашагал дальше. Между площадкой второго и третьего этажа до меня снова донесся Тасин голос:
— У меня все равно есть твой номер телефона!
— Порви его! — крикнул я, задрав голову вверх. — Порви и выброси!
Лестничный пролет отозвался гулким эхом где-то под самой крышей. И мне вдруг показалось, что слова мои адресованы вовсе не Тасе.
С Тасей я больше не виделся. С Дашей тоже. От Ярика я узнал, что ее папе предложили должность в университете Лос-Анджелеса, и они всей семьей переехали в Америку.
Сам Ярик два года спустя тоже перебрался в Америку, неожиданно для всех женившись на еврейской девушке. Звали ее, если не ошибаюсь, Юлей, характер у нее был железобетонный, и Ярика она прибрала к рукам прочно и надежно, чему сам Ярик, как мне кажется, был только рад. Обосновались они в Бостоне. Меня это не удивило — у жизни довольно своеобразное чувство юмора. Через пару месяцев я получил от него письмо, состоявшее из одной-единственной фразы, хвастливо написанной по-английски: «And, which of us is American?» [38]Некоторое время мы переписывались, затем переписка как-то сама собой заглохла.
Я не знаю, чем Ярик занимается в Америке. Думаю, катается на скейтборде, ест гамбургеры и пьет кока-колу. А может, и виски, если, конечно, жена иногда ему это позволяет.
Солдатский клуб
На задворках мотострелковой части, где я служил в середине восьмидесятых, располагался солдатский клуб — двухэтажное здание из серого кирпича с однообразными рядами окон и плоской крышей, на которую вела пожарная лестница. С крыши был виден военный гарнизон, отгороженный от поселка неглубокой и не очень широкой речкой, над поселком возвышались сопки, а за сопками в десятке-другом километров проходила китайская граница. Весной речка разливалась, захлестывая порой единственный мост, соединяющий гарнизон с поселком, летом вскипала от идущей на нерест чавычи, а осенью гляделась печально и тихо, и над ее серой водой вспыхивали багровыми и желтыми пятнами склоны сопок.
Небольшой поселок был удивителен своей пестротой. Здесь жили русские, украинцы, корейцы, казахи, выходцы с Северного Кавказа; бывшие зэки соседствовали с вышедшими на пенсию надзирателями, а браконьеры с инспекторами рыбнадзора. Браконьерством, к слову, занималась почти вся мужская половина жителей поселка и даже кое-кто из гарнизона. Воинских частей в гарнизоне было несколько, здесь же располагался и штаб дивизии, а единственным в своем роде увеселительным заведением служил Дом Офицеров с кафе, бильярдной, библиотекой и актовым залом, где проходили офицерские собрания, а по вечерам, кроме понедельника, крутили кино. Солдатам редко, разве что в увольнительной, удавалось попасть в этот вертеп культуры, главное достоинство которого заключалось в том, что в здешнем буфете можно было отведать горячих пирожков и прикупить болгарских сигарет, а в зале во время киносеанса, воспользовавшись темнотой, отхватить от шторы кусок плюша на дембельский альбом.
В солдатский клуб бойцы наведывались и того реже, поскольку делать здесь было, в общем-то, нечего: фильмы привозили раз в две недели, кафе отсутствовало, небольшая библиотека хоть и имелась, но книг в ней никто не брал, так что должность библиотекаря вскоре упразднили за ненадобностью. Куда большей популярностью пользовался просевший в районе клуба участок забора, который служил в прямом смысле перевалочным пунктом для самовольщиков.
Впрочем, трое солдат состояли при клубе постоянно. Это были киномеханик Андрюха Окунев, вечно сонный увалень с Урала, художник Глеб Рыжиков из Питера, державший себя в соответствии с высоким артистическим призванием и статусом жителя культурной столицы, и писарь Артур Салатаев, невысокий, но импозантный осетин, обладавший невероятно красивым почерком и своеобразными представлениями о русской грамматике. Работу их курировали лично замполит полка, пропагандист части и начальник клуба. Замполит, подполковник Овсянников, редко баловал клуб своими визитами, за что солдатская троица была ему от души благодарна. Зато пропагандист — майор Чагин, и клубный начальник — старший лейтенант Васильков, постоянно отирались поблизости и всячески мешали самодостаточным бойцам спокойно дожить до дембеля.
— Артурчик! — поначалу ласково окликал своего любимца майор Чагин, — документацию подготовил?
— Так точно, товарищ майор!
— Дай глянуть.
Артурчик приносил листки бумаги, исписанные изумительно ровными, почти книжными строками, и клал их на стол перед майором. При виде их пропагандист расплывался в улыбке, глядел на своего писаря с обожанием, близким к обожествлению, и сулил тому райские кущи и отправку на дембель с первой партией. Затем он углублялся в чтение, и уже через несколько секунд лицо его приобретало красноватый тон, затем окрашивалось в густой свекольный колер, а из майорской глотки вырывался звериный рык:
— Салатаев, твою дивизию! Ты что, с баранами у себя в кишлаке русский язык учил?!
— Зачэм с баранами, товарищ майор?
— Вот и я о том же — зачем? Кто тебя, упыря тунгусского, к баранам подпустил? Это ж, бляха, мудрецы в сравнении с тобой! Это ж, сука, академики! Ты что здесь, саксаул каракалпакский, написал?
— Я — осэтин! — бледнея от гнева и как бы хватаясь за рукоять несуществующего кинжала, отвечал Артурчик.
— Мне как политработнику это по хиросиме! У нас все нации… Ты глянь, осетин, что ты за мутотень насобачил своим хризантемным почерком!
— Гдэ?
— Блин, в Улан-Удэ, или откуда ты там… Что это за «кулутурно-мясовая работа»?! Только о жратве думать можешь?
— Зачэм толко? Нэ толко.
— Я вижу, что «нэ толко». Я вижу, о чем ты еще думаешь. Вот: «пиздча для размышлений». Это, бляха, что за хиромантия?
— А что нэ так? — удивлялся Артурчик. — Надо чэрез «о»?