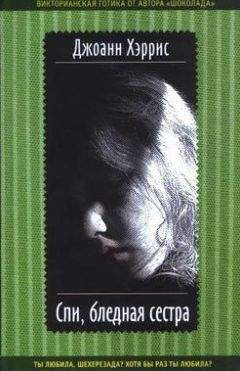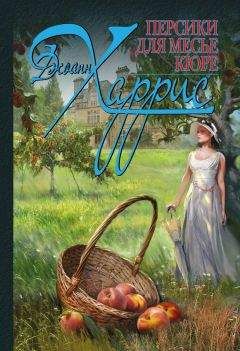Елена Катишонок - Когда уходит человек
Сегодня опять идут танки, но в другую сторону и без цветов. Не только танки: машины с военным начальством, пыльные грузовики с молчаливыми и пыльными, точно глиняными, красноармейцами; пехота. Их никто не напутствует, но все провожают — глазами. По выражению глаз трудно понять, какие слова не сказаны.
Оставаться всегда трудней, чем уходить.
Взрывы бухают то вдали, то пугающе близко. Колонна сворачивает к Московской, но там затор, и движение приостанавливается как раз на уровне дома № 21. Красноармеец в потной гимнастерке просит воды. Безошибочно обращается к старухе в платке, стоящей в воротах напротив, где никто никогда не стоит. Она возвращается еще с двумя старухами, которые несут ведро и кружку. Солдаты прилипают к ведру и пьют через край, отталкивая локтями один другого. Первый с сожалением протягивает хозяйке пустую кружку: «Спасибо». У ворот появляется, стуча палкой, лысый старик с седыми усами и спрашивает очень громко, почти кричит:
— Что, германец догнал?
Лейтенант, которому надоело вытягивать голову: что там впереди, чего стоим, — отзывается важным голосом:
— Передислокация, папаша.
— Я говорю: германец гонит? — не слышит старик, покалеченный в окопах 1914-го и ничьим отцом не ставший, и лейтенант уныло повторяет про передислокацию, в которую так хочется верить.
Старухи уносят ведро. Старик с палкой пытается еще что-то сказать, но колонна начинает двигаться вперед.
Вернее — назад: к Москве.
А в доме народу прибыло! — Если считать народом крохотную плотную личинку, закрученную во что-то розовое. Ее очень бережно несет какой-то красноармеец. Прежде чем ступить на расколотое крыльцо, он отводит в сторону руки с розовым батончиком и смотрит вниз, чтобы не оступиться. Рядом с ним идет жена дантиста и тоже ступает очень осторожно. Позвольте, да этот с батончиком никак доктор Ганич! Ну да: только в форме. Как эти, которые уходили. Что, тоже уйдет? Зачем? Ведь там, в конце пыльной улицы, скрылись чужие, пришлые, а доктор Ганич всю жизнь прожил в этом городе; зачем?..
Дантист сам не знает, чего ждать. Необмятая гимнастерка и широкие, как юбка, галифе означают, что он принадлежит не себе, а некоему «территориальному стрелковому корпусу». Сегодня корпус еще в городе, а завтра может быть переброшен на фронт: передислокация. Как объяснить это жене, чтобы она не плакала? Лариса устроена так же, как большинство женщин: они думают одновременно о разном и на несколько ходов вперед. Вадима заберут на фронт, а там сразу убьют; надо искать новое жилье, потому что дом могут бомбить, вот как соседний; как назвать дочку, и как жить дальше?..
Счастливый отец виновато молчит и старается не смотреть на часы, хотя знает: времени осталось всего ничего. Нужно собрать вещи и сделать самое трудное: проститься.
Сбор вещей — на дачу, в путешествие или, как сейчас, на фронт — всегда отвлекает женщин. Лариса больше не плачет — нет времени. Дождался своего часа замечательный австрийский рюкзак, купленный еще в свадебном путешествии. А какой вместительный! Но перед купальным халатом австрийский подарок все же пасует. Когда жена разочарованно уносит халат, доктор воровато выхватывает из рюкзака шелковую пижаму и торопливо сует скользкий комок обратно в шкаф.
— Несессер, — возвращается Лариса, — ты забыл несессер.
Ганич колеблется: не забрать ли отцовский револьвер? Однако решает не он, а часы. Некогда идти вниз, раскапывать угольную кучу, потом умываться…
Юлик не отходит от кроватки с малышкой: ждет, когда она проснется. Жалко, что Эрик не видит: у него есть живая сестричка, а папа теперь тоже носит форму. Отец его целует, и мальчик глубоко вдыхает запах мыла, новой ткани и давний-давний, родной лекарственный, которым пахнет папа, даже когда он выходит из моря.
— Давай назовем Ирмой, — внезапно говорит жена. После той ночи она в первый раз упоминает имя подруги.
Остается помолчать — возможно, в последний раз помолчать вместе. Первой нарушает молчание маленькая Ирма, и доктор встает.
Кто знает, что труднее — уходить или оставаться?
Кончался июнь и одновременно кончалась — уже кончилась — жизнь без войны. Кончалась советская власть, и какие-то голоса заговорили ни много ни мало как о национальном возрождении страны, проглоченной этой властью. Кто-то видел, как где-то вывесили родной красно-бело-красный флаг. Нет, не сам видел, но тем, кто видели своими глазами, можно верить. Теперь — вот увидите — им покажут. Хватит, попили нашей крови. Кто покажет, кому?.. Немцы, вот кто; им и покажут, всем этим жидобольшевикам.
Несмотря на мощный гражданский запал, голоса звучали не так громко, как бомбежка. Очевидно было одно: в городе что-то менялось.
Раненых везли в больницы. Доктор Бергман не помнил в клинике такой тесноты. После утренней пятиминутки главный хирург его задержал. Суть просьбы — работа в «большой хирургии».
— Иначе никак, — объяснил главный, по прозвищу Старый Шульц, — сами видите, что творится. Больных все больше, а врачей… Знаю, знаю, — остановил он Бергмана, — и ваше отделение остается на вас. Но я включаю вас в график дежурств; собственно, уже включил.
Он беспомощно развел руками и продолжал:
— Я отлично их понимаю: кому же спасаться, как не евреям? Вчера прислали автобус: эвакуировать только семейных. Один смеется, другой плачет, а у доктора Хейфеца дети на даче. На взморье не попасть — взорвали мост…
Помолчал и закончил:
— Рабочий день — в зависимости от загрузки. Не исключаю, что придется раз-другой заночевать в ординаторской на кушетке. Да, чуть не забыл: пропуск получите прямо сегодня. А лучше сейчас, — и озабоченно посмотрел в окно, в горячее июньское небо.
Пропуск, спасающий от кар комендантского часа, был уже выписан, и доктор Бергман рассеянно положил узкую, похожую на квитанцию, бумажку в карман.
От разговора осталось состояние легкого оцепенения, словно заснул в неудобной позе, и тело плохо слушается. Во время работы это ощущение исчезло, но сохранилась память о нем, как о не решенной у доски задаче. Время ушло, решения нет; но имеет ли решение задача деления людей? В детстве мир делится на мать и отца. Ты становишься старше, и разрастающийся мир распадается на своих и чужих, но это меркнет, когда осознаешь себя мужчиной и понимаешь, что прежний, привычный мир состоит из двух половин, где вторая — если верить трепещущему сердцу — лучшая и бесконечно желанная. Возраст и жизненный опыт обогащают множеством добавочных разветвлений: свои — и не очень свои; чужие, но почти свои; нюни и хулиганы; отличники и двоечники; любимые и любящие; блондины и брюнеты; простаки и хитрецы; атеисты и верующие; подвижники и карьеристы… Мир дробится бесконечно, и если продолжать думать об этом, то захочется вернуться в безопасное, теплое детство, где были только свои — Каин и Авель, и где восстал Каин на Авеля… и убил его.