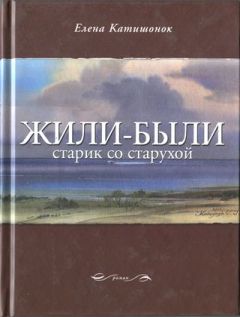Михаил Шишкин - Письмовник
Но с этими фокусами потом было еще вот что.
Бабушка заболела. Вернее, она зимой поскользнулась на наледи около почты, упала и сломала себе бедро. Она уже не вставала, несколько месяцев лежала беспомощная и слабела. Запомнилось, как мама вздыхала, что бабушка больше «не жилец». Еще запомнилась сцена, как у бабушки трясутся руки и голова, а мама расчесывает ей волосы. Бабушка была в молодости очень красивая, ходила с длинной толстой косой, в руку толщиной. Косу когда-то отрезали из-за болезни, и она хранилась у нас как семейная реликвия. А к старости у бабушки снова отросли длинные волосы.
Однажды я очень поздно вернулся из гимназии. Нахватал двоек, не хотел идти домой в уверенности, что опять будет головомойка. Гулял где-то допоздна, зная, что теперь попадет и за это. И вот прихожу, готовый к самому худшему, а мама, вместо того чтобы ругать, обнимает меня и целует. Я ничего не понимал, а потом понял — от бабушки вышел врач и долго мыл руки, тщательно, каждый палец отдельно. Мама поговорила с ним, потом прижала мою голову к груди и сказала, что бабушка уже при смерти. Она повела меня прощаться.
Перед смертью бабушка стала страшной, лежала растрепанная и вся тряслась, особенно руки.
Не помню, о чем мы говорили, но вдруг она попросила, чтобы я показал ей какой-нибудь фокус. Я замотал головой. Я не мог. Не то чтобы не хотел — просто не мог. Но объяснить это было никому невозможно.
Мама стала упрашивать:
— Володенька, ну пожалуйста! Бабушка у тебя, может, ничего больше никогда не попросит. Ну что тебе стоит?
Но я не смог. Вырвался из маминых рук, убежал куда-то от всех подальше и расплакался.
Перед похоронами меня поразили ее успокоившиеся руки в гробу. Мама сидела и расчесывала волосы покойнице.
На кладбище меня подталкивали поцеловать мертвую и бросить первую горсть земли. Я молча упирался. Было не страшно, но как-то не по себе.
Помню, что, когда комья земли стали падать с легким стуком на крышку гроба, мне отчего-то пришло в голову: вот бы сейчас открыть гроб, а он — пустой, и бабушка ждет нас дома!
Ее зарыли, разровняли, как цветочную клумбу. И было совершенно невозможно, что бабушка стала клумбой.
Похороны продолжались долго, мне ужасно захотелось в уборную — мама отпустила меня в кладбищенскую будку с дыркой в полу. И вот там, стоя над ямой, напомнившей мне могилу, я очень остро почувствовал, что бабушка не может ждать нас дома, что она там, в своем гробу под землей, потому что смерть — это настоящее, такое же настоящее, как эта вонючая, смрадная дырка.
От бабушкиной смерти у меня осталось ощущение детского ужаса. Но то, что я тоже когда-то умру, — в моем мозгу тогда как-то не укладывалось. Я испугался этого по-настоящему намного позже.
А сейчас слушаю стоны раненых, доносящиеся из госпитальных палаток, и думаю — какая это была замечательная смерть! Это же так чудесно — прожить всю жизнь и умереть от старости.
Вот видишь, как здесь меняется представление о счастье.
Знаешь, что мне сейчас пришло в голову? Что я в жизни ничего никому не дал. Не по пустякам, а по-настоящему. Все мне что-то давали — я брал. А сам никому ничего. Тем более маме. И не потому, что не хотел — но просто не успел.
Снова такие простые мысли лезут как какие-то открытия.
И вот я понял, что хочу так много дать — тепла, любви, мыслей, слов, нежности, понимания, а все может оборваться, не начавшись, завтра, через пять минут, сейчас! Так обидно!
Все, заканчиваю на сегодня. Рука устала. И глаза болят — пишу тебе при свете ночника.
Сашенька моя, так хочется, чтобы у тебя все было хорошо!
Я знаю, мы увидимся.
***
За что?
Все время задаю себе вопрос: за что?
Почему нужно наказывать именно так? Именно этим?
Ехала в трамвае. Вдруг боль внизу живота, резкая, невыносимая. Я испугалась и уже сразу все поняла, но сама себя уговаривала, что это совсем не то. Не знаю что, но не то. Пошла кровь.
Мне бы сразу в больницу, а я домой, к нему. Притащилась, он засуетился, стал бегать по квартире и только лепетал:
— Скажи, что сделать? Скажи, что сделать?
Никогда не думала увидеть его в такой панике. Даже не знал, как вызвать «скорую». Он был испуган еще больше меня. Стала его утешать, что ничего страшного, а сама ведь понимаю, что если маточное кровотечение не остановить, то можно умереть от потери крови, а само по себе оно не проходит.
«Скорую» прождали вечность.
Будто набили живот камнями и сжимают тисками. Пальцы на ногах немели. Вся в испарине, всю трясет. Я выла, началась истерика от боли и обиды, а он наливал себе коньяк, рюмку за рюмкой, чтобы успокоиться. Боль адская. В глазах темно, комната скользит. Несколько раз казалось, что теряю сознание.
В больнице сразу на стол. Обезболивающее. Выскоблили.
Мой ребенок вышел из меня, а как, я и не заметила. Из меня текло. Кровь шла сгустками.
Внутри все ободрано — и душа, и утроба.
Плоти моей стало меньше, а кажется, будто ударяюсь обо все на свете: о двери, о людей, о звуки, о запахи. Все стало шумным, мелким, утомительным. Ненужным.
Как же так? Еще только на днях остановилась у витрины с детскими вещами, разглядывала и удивлялась, сколько же всего нужно этой крошке, а сейчас я уже одна.
Мама, когда узнала, сказала:
— Плачь! Это то, что тебе сейчас нужно, — хорошо поплакать.
А Янка:
— Лучше бы ты аборт сразу сделала и не мучилась.
Сняли квартиру с детской для будущего ребенка — а теперь в ней остается ночевать Сонечка.
Я отлеживалась после больницы, а Соня, как обычно, спросила:
— Ну, как там мой братик?
Улыбнулась ей в ответ:
— Хорошо.
— А чего в постели валяешься?
— Простыла немножко.
И отвернулась, сделала вид, что закашлялась в подушку, чтобы незаметно было, что опять реву.
А вчера привела ее в ванну, стала раздевать, она не дается, дуется, царевна-несмеяна. Чтобы как-то ее раскачать, стала играть с ней бельевыми прищепками, кусаться. Не рассчитала и чуть прищемила ей кожу. Протянула ей прищепку:
— На, ущипни меня тоже!
Она взяла и ущипнула по-настоящему, до боли.
Мою ее, а она ревет, что мыло в глаза и что мама все делает не так.
Потом растираю полотенцем, и чисто промытые волосы звонко скрипят. Моя мама мне так всегда говорила в детстве, что волосы нужно мыть до скрипа.
У меня будет когда-нибудь ребенок, обязательно будет, и вот буду ему так мыть волосы — до скрипа.
Потом только поняла, почему Соня так не хотела у нас оставаться на ночь. Она все еще писается. Приходится вставать ночью, проверять, сухо ли — и менять простыню, если мокро. Она все это про себя знает и ужасно стыдится.