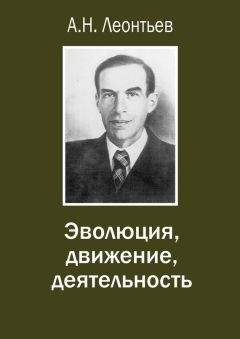Алексей Ильин - Время воздаяния
В то же самое время это новое мое «мировоззрение» оказалось весьма желательным для поднимавшейся волны протеста и «социальных требований». Я уже участвовал в каких — то митингах, раз даже шел впереди демонстрации, неся знамя. Уже прозвучали робко слова «певец революции». Реакция прежних моих друзей и литературного круга разделила их на два совершенно враждебных лагеря — если один (меньший) с энтузиазмом поддерживал меня, то другой (больший) отвечал тем, что чуть ли не плевал в лицо; руку многие подавать во всяком случае перестали. Повторялась давняя история, бывшая со мною еще на первом курсе университета, только теперь — с противоположным знаком.
«Происходит окончательное разложение литературной среды, — записал я тогда в дневнике. — Уже смердит».
Все это вместе развратило меня душевно: я почувствовал нарастающий день ото дня какой — то мертвый бессмысленный цинизм и вместе с ним снова стал чувствовать в груди холодную пустоту.
«Зачем ты так нагло смотришь женщинам в лицо?» — спрашивали меня иногда — «Всегда смотрю, — отвечал я. — Женихом был — смотрел, был влюблен — смотрел. Ищу своего лица. Глаз и губ».
Глаз и губ… Сила человеческой натуры такова, что — не предполагая, а зная — полную безнадежность этого, я все же искал их: результатом были два романа, вначале, казалось, обещавшие новое счастье, но оконченные просто усталостью.
«Бабье, какова бы ни была — 16–летняя девчонка или тридцатилетняя дама…»
Усталость — вот, что стало сопровождать каждый мой день, усталость — невидимая окружающим, но ощущаемая мною, так же ясно и остро, как тяжесть холодной толщи вселенских вод, когда — то данная мне в испытание, мгновение которого показалось мне тысячелетием. И врач, осматривая меня, качал головою и говорил: «Вам, батенька, отдохнуть бы нужно, на воды… А то от горячительных у вас нейрастения развивается…» Я слушал его, но думал: «Зачем? Зачем мне теперь все это — что изменится, если я стану ездить на воды, следить за здоровьем — ради чего? Чтобы продлить свою ежедневную никому не видимую пытку еще на пять, а то и десять лет?» Для вида я соглашался, брал какие — то рецепты, совал деньги… Но продолжал жить, как жил, понимая, что медленно умираю. Это было мне хотя бы привычно.
* * *…Я бросил, оставил его навсегда, этого великого и несчастного — во многом по моей вине — поэта — рыцаря его Прекрасной Дамы, ясновидца и наивного глупца, одним из последних открывшего небо и одним из первых — преисподнюю, оставил его медленно и незаметно умирать в лучах осенявшей его славы, какой мало кто знал из его современников, умирать от чувства стыда и бессилия, от крушения его наивных, но прекрасных юношеских надежд на обновление мира, которое, свершившись, не оставило в этом новом мире места для него самого, умирать восхваляемым врагами и проклинаемым прежними друзьями, однако никем из них не понятым и не оцененным до конца; быть может, только лишь я был его единственным настоящим другом, каждый вечер отражавшимся в его стакане, но нити судеб наших, когда — то волею капризного случая сплетенные воедино, расходились теперь навсегда и ничто уже не могло удержать их — даже протянутые рядом, они теперь шли — врозь.
Как — то ночью я встал, стараясь ничем не потревожить его тяжелый похмельный сон, ни одна половица не скрипнула под моею ногой, ни одна хрустальная подвеска в лампе не звякнула, обнаружив исход мятежного духа, еще недавно его населявшего; я несколько мгновений глядел на бледное, одухотворенное уже не мною лицо, пепельный нимб, окруживший широкий умный лоб, крепко сжатые губы. Затем тихо вышел — только женщина, дитя земли, которой он принес такую щедрую и такую жестокую в своей ненужности жертву, которой так и не суждено было исторгнуть из своего лона продолжение старого своего мира, поднялась на локте и на мгновение воззрилась на меня из другого угла: я сделал успокаивающий жест — и она поверила, закрыла снова глаза, откинулась на подушку, разметав по ней свои волшебные волосы, и затихла, приняв меня за сновидение. Я осенил ее знамением — она ведь любила по — своему этого сумасшедшего, который принес ей столько горя, и которого сама же она нечаянно погубила в березовой роще, однажды в июне, много лет назад.
Вскоре последовали события: революция, и последующий полный разброд общества и государства, чудовищная, невиданная дотоле война и новая революция, однако ко всему этому я уже был совершенно непричастен, совершенно. Меня не стало, я растворился в этом полубезумном народе; когда я проходил по улице, или сидел где — нибудь на обочине, меня никто не замечал, так — иногда какая — нибудь сердобольная старушка бросит пятак «на водку», или кусочек хлебушка; ни в том ни в другом я не нуждался, но благодарил, низко кланялся, поскольку понимал, что пятачок — то, может, не последний, но и — не лишний. Только собаки, скоро чующие всякую чертовщину, скалили на меня зубы, но тоже — так, скорее для острастки: не забывайся, мол, кто ты есть.
Лишь однажды, пожалуй — сразу после очередной революции — проходя как — то кривой бедноватой улочкою, заслышал я женский плач и причитания; подойдя — по неосторожности — ближе, я увидел двух женщин: помоложе и постарше — над телом, вероятно, только что покончившего с собою студента — это было модою в тот год; лужица крови расплывалась из — под виска. Та, что помоложе, рыдала, и кричала (именно ее голос я услышал издалека): «Зачем, зачем теперь все это? Ну пусть, пусть было бы так, но он бы — жил! Жил! Может, еще написал что — нибудь… — (видимо, был поэт). — А пусть бы даже и нет, но зато — жил!» — и колотила маленькими кулачками в грудь старшей. Старшая только отталкивала ее руки, и молча, с ненавистью глядела на плачущую. «Пойдем, брат, — сказал я студенту, — здесь нам больше делать нечего» — и мы ушли, оставив женщин ссориться над бездыханным телом. И вот тут какой — то небольшого роста сухонький господин, с удивленными детскими глазами и маленькими черными усиками под носом, встреченный нами, когда мы уже выходили к набережной — вдруг взглянул на нас внимательно и, ничего не сказав, уступил дорогу: — пожалуйте — с, мол. Я вспомнил его потом: встречал раза два в редакциях — тоже был поэт.
…Все же до меня доходили и кое — какие слухи о моем… за многие годы, которые я был им, я понял, убедился, что облик и судьба, доставшиеся ему — и есть судьба и облик пророка: не предсказателя будущего, как ошибочно стали полагать со временем, но — провозвестника. Знаю, что обе революции принял он с мужеством, как должное, хотя и не ждал от них ничего особенно хорошего для себя и своего сословия; служил даже в каких — то комиссиях, расследовавших дела министров временного правительства, написал книгу об этом впоследствии; выступал со стихами, был кумиром тогдашней молодежи… Только неожиданные провалы памяти преследовали его и заставляли тревожиться друзей и родных.
Революция отплатила ему, как и всегда платит она своим вестникам — лишила всего в страшную гражданскую войну, зимою оставив околевать их с женой без дров, в продуваемом ветрами дощатом домике, впроголодь; это окончательно подорвало его здоровье, совершенно, следует сказать, железное, сопротивлявшееся столько лет почти намеренному уничтожению. В последние месяцы он, говорят, сделался совсем невменяем, буен, что при его огромной, сохранившейся почти до конца физической силе было опасно, он в ярости крушил мебель, однажды ни с того ни с сего вдребезги разбил гипсовый бюст — обожаемого им в молодости Платона, кажется — который он тщательно берег и всю жизнь везде возил за собою.
Когда он скончался, ему шел сорок первый год. «Если бы я умер теперь, за моим гробом шло бы много народу, и была бы кучка молодежи» — написал он в дневнике за десять лет до этого; последнее предположение оказалось совершенно верным.
V
Конечно, я знаю, все это никому не нужно — никто из тех, кто мог бы понять здесь что — нибудь, уже никогда не станет этого читать, а тот, кто станет — так ничего не поймет, вернее поймет по — своему, поймет совсем не о том, о чем я пишу здесь, станет искать своего собственного смысла — возможно — более глубокого и важного, но, конечно же, не найдет его во всех этих словах, во всех этих попытках высадить в открытый грунт то, что выросло без спросу в темных подвалах души, выросло нелепыми и тщедушными белесыми побегами, мучительно пробиваясь — даже не к свету, а к тому представлению о нем, что залегло некогда в клеточную память всех живых существ — даже столь безобразных и никчемных.
Но… Неужели же их безобразность не дает им права хоть на какую — то жизнь, пусть и неправильную с чьей — то точки зрения? неужели никчемность их такова, что без них можно свободно обойтись? — а для этого подвергнуть их уничтожению по чьей — то прихоти, или пусть даже разумно разработанному плану — чтобы освободить место под что — то другое, полезное? Неужели же сам факт их существования не говорит, что по отношению к ним также может проявляться милость — ну хотя бы тем, кто их создал?