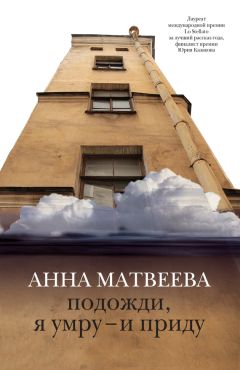Анна Матвеева - Подожди, я умру – и приду (сборник)
Патрик холодно замолчал, а потом расхохотался. Господи, какие у него были зубы – они даже сверкали, честное слово!
– Зачем им мое дерьмо? – всё еще смеясь, спросил Патрик. – На память, что ли? – Он, видимо, уже привык к некоторому преклонению, с которым в те годы смотрели в Свердловске на иностранцев.
– Да для анализа, как ты не понимаешь!
– Не понимаю, – честно сказал Патрик. – Это каменный век какой-то, и это очень негигиенично! У нас берут анализы сразу из прямой кишки – так намного удобнее.
– Патрик, ну в конце концов, ты ведь в России, – не унималась я, – так что лечить тебя будут по-российски.
– Хорошо, – оскорбился Патрик, – я сделаю, как ты говоришь, хотя это просто ужасно! Омерзительно, вашу мать!
И мы уже вместе расхохотались.
Его навещали гораздо чаще, чем меня. Каждый час под окном раздавались визгливые девичьи крики, юношеские баритончки и – редко – тяжелый бас профессора. Профессор, впрочем, скоро уехал, как и обещалось. Девиц тоже поубавилось – ирландец был с ними не слишком любезен.
– Глупые курицы, – жаловался он мне, – думают, что я их повезу с собой в Даблин. Я не могу всех повезти с собой в Даблин, хотя некоторых мне бы хотелось видеть у себя в гостях.
И этот пронзительный джинсовый взгляд…
Меня должны были выписать со дня на день, лето совершенно раскочегарилось, и лежать в духлой палате не было сил – но я совершенно не страдала, мы с Патриком расходились поздно вечером, и рано утром он уже снова сидел у меня в палате…
Я даже почти забыла о Мокроусовой, хотя это, конечно, было некрасиво с моей стороны. Однажды Вера так громко кричала у меня под окнами: «Ленка!», что я услышала ее, будучи в гостях у Патрика. Я высунулась в его окно с наклеенными пластырем цифрами 213.
– Я здесь, Вер!
– Тебя перевели? – Мокроусова шагала по высокой траве и обиженно глядела на меня из-под челки. В руке у нее был пакетик с маминым творогом. Мне стало стыдно.
– Нет, просто я… У меня тут появился приятель… Патрик, иди сюда. Я тебя хочу познакомить.
Патрик любезно высунулся по пояс, и Мокроусова побледнела.
Через месяц мы трое стояли в аэропорту и провожали Патрика О’Коннора в далекую Ирландию. Сначала он летел в Москву, а уже оттуда – в Дублин. Патрика провожали не только мы с Веркой – пришла целая куча народу, профессор с женой, обломавшиеся девицы, еще какие-то странные персонажи, но Патрик особенно выделял нас с Веркой. Не считая профессора, конечно.
Потом – совершенно неожиданно – начался очередной курс учебы, а вместе с ним и осень. Мы с Мокроусовой курили в туалете между парами, и однажды она спросила, бросая окурок в унитаз:
– У тебя сколько писем?
– Писем? – деланно удивилась я.
– Ты прекрасно понимаешь, о чём я, – серьезно сказала Мокроусова. – От Патрика у тебя сколько писем?
– Одно.
Мокроусова порозовела и отвернулась к окну.
Письмо Патрика я носила в своем рюкзачке до зимы. Оно было довольно забавным и неисправимо дружеским. К зиме пришла рождественская открытка с музыкой «Джингл беллз», она играла, когда я открывала и закрывала открытку, что продолжалось примерно сто пятьдесят раз, и мама сказала, что это невыносимо. Мы с Верой старались не говорить о Патрике – и делали вид, что так и надо. Будто всё по-прежнему. Казалось бы.
В марте мне пришло еще одно письмо – с местным штемпелем. Съемочная группа фильма «Удивительный клад» с глубоким удовлетворением сообщала о завершении работы над фильмом и с удовольствием звала меня (плюс одного человека) на премьерный показ в Дом кино. На этом Доме кино приделана статуя женщины, и мы с Мокроусовой называем его поэтому «Дом женщины». А рядом с Домом кино – еще один Дом, но уже обуви. К нему ничего не приделано, но мы называли его Дом Боуи.
Мы пришли с Верой в ажурных блузках и коротких юбках, я до сих пор точно не уверена, кто из нас кому подражал – но у нас почему-то всегда были похожие вещи. Вокруг носились душистые вихри, бегала принарядившаяся Светлана Ивановна в чём-то елочно-блестящем, и Мокроусова сказала, что Светлане Ивановне, судя по всему, очень не повезло в жизни, и я промолчала, хотя мне хотелось затеять вялый спор. Краснощекий Безматерных В.Ф. торопливо вливал в себя коньяк в буфете и на глазах становился похож на недавно смещенного премьер-министра.
Наконец всех согнали в зал, приглушили свет и выгнали на сцену актеров и обслуживающий персонал. Я сразу узнала свою «Машу» – она была самой молодой из всех актеров и с самой глупой рожей. По очереди актеры благодарили режиссера, оператора, зрителей и маму с папой, что делало весь этот перфоманс удивительно похожим на церемонию вручения «Оскара», которую с недавних пор начали транслировать по телевидению. К счастью, никаких призов им не вручали, просто дали выговориться (всех превзошла Светлана Ивановна, бросившаяся вытаскивать на сцену какого-то вспотевшего от скромности паренька-техника и потерявшая по дороге туфлю, так что Пегий помчался за ней следом и церемонно подал обутку новоявленной Золушке) и потом погрузились в полную темноту, шторы с шелестом открылись, начался премьерный показ.
…Отвратительный хохот, ларец из позеленевшего металла, судорожная старческая рука – такое ощущение, что режиссер даже и не пытался добавить в сценарий каких-то новых деталей, действие развивалось с той же напыщенной глупостью, как и на бумаге. Мокроусова вздыхала и морщилась в соседнем кресле, а я будто ослепла – за неумелой игрой и дешевыми кадрами мне виделись прошлогодняя безоблачность и недолгое больничное счастье… На экране моя несбывшаяся героиня ползла в грязи за каким-то нелепейшим субъектом, лепеча въевшиеся в кровь реплики:
– Витечка, Витя, не надо со мной так!
Мокроусова почти рыдала от смеха и шепотом поздравляла меня с чудесным избавлением от позора. Финальным кадром показали свежевыкопанное пугачевское подземелье, в котором беззастенчиво красовался электрический самовар с пятачком розетки…
Аплодисменты раздались сразу же по завершении финальных титров, пролетевших по экрану стремительно, на голливудский манер. Кто-то вполне искренне кричал «браво!». На освещенную сцену поднялся всё тот же составчик, и мы с Мокроусовой встали, чтобы уйти.
Между нами всё было по-прежнему, мы так же понимали друг друга с полувзгляда, но теперь появилось и нечто новое: длинные паузы в разговорах, длинные конверты с зелеными марками, которые лежали во всех Веркиных тетрадках, закрытые двери после длинных междугородных звонков, полосовавших мое сердце в кровавые жгуты… Осенью она уехала «в гости» и в обещанный срок не вернулась. Родители говорили что-то маловразумительное, они сами будто не верили, что их Вера теперь будет жить в чужой стране непонятно на каких правах, я гладила постаревшую, сразу начавшую пахнуть псиной Рэнейсенс; пожалуй, только Рэнейсенс тосковала так же сильно, как я.
Наконец пришло письмо. Мокроусова писала хлестко и весело, как обычно. Патрик предложил замуж, ей пришлось согласиться, потому что она влюблена в него и еще влюбилась в Дублин. Они ходят в пабы, и местная пьянь просит разрешения сфотографироваться с Верой на память – так убийственно действует ее красота. Это она шутила в письме, но я-то понимала, что именно так всё и обстоит на самом деле. Письма лились на меня потоком, я будто стояла под душем из конвертов, из них падали яркие кодаковские снимки: Вера и Патрик, Патрик и Вера, красивая пара – лучше не придумаешь…
Последнее письмо пришло в феврале, подписанное уже Вера О’Коннор. Vera признавалась, что и представить себе не могла, что ее свадьба обойдется без меня, но они торопились, потому что скоро придется переезжать в другой город, где у Патрика будет новая работа-учеба, а Веру возьмут доучиваться в институт… Родственники у Патрика очень милые, а друзья – из ирландских цыган, если бы ты видела, Ленка, в каких платьях их девчонки явились на свадьбу, это что-то с чем-то! Свадьбу играли прямо на День святого Патрика – хорошая примета, ведь это самый главный ирландский праздник. В этот день вся Ирландия обряжается в зеленый цвет и даже пиво пьет – немыслимо! – зеленого цвета.
Да, Ленка, обязательно пиши на конверте Eire, а не Ireland. Eire – корректнее.
На войне
– Выступает Таня Царева, пятнадцать лет, «Дэнс-Хаус»!
И все такие:
– Йоу!
И Таня такая – кач снизу! Так-то она супер, это все признают, даже Няша Абрикос. У Няши на ноге тату – обвивает бедро, спускается к коленке. Портрет погибшего диджея, дорожка, иероглиф и купол екатеринбургского цирка. Няша – гоу-гоу. Ноги блестят от масла, на груди – шрамы в виде бабочек. Делала скальпелем, говорит, ни фига не больно. Шрамы прикольные – подрагивают, переливаются.
Таня мечтает, грызет ручку – во рту вкус пластмассы и чернил. На месте сидеть невозможно. А вокруг все такие – типа пишут. Таня вскакивает, кидает на стол Ю-Ю контрольную и тупо выбегает из класса.